


  |
 |
||
|
Дубина
В. С. «Обыкновенная история» Второй мировой
войны: |
|||
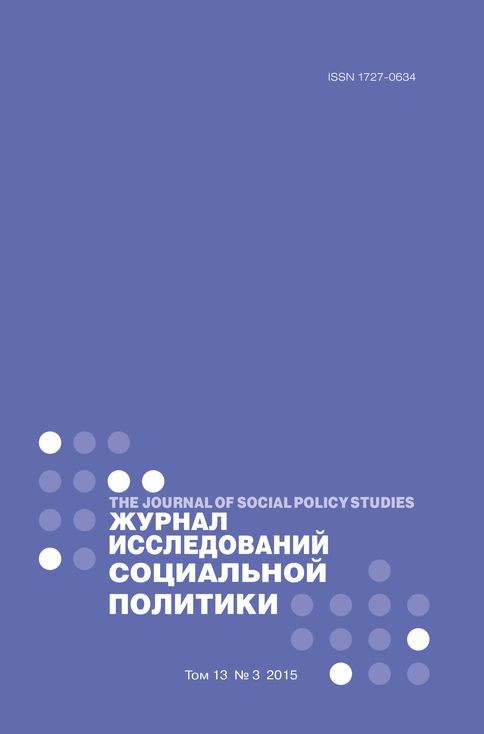 |
|||
Дубина В. С.1«Обыкновенная
история» Второй мировой войны: Главная цель статьи – анализ пробелов в изучении сексуального насилия во время Второй мировой войны, а также возможные направления в дальнейшем развитии исследований вопроса. Тематически статья обсуждает несколько ключевых моментов: роль противопоставления «цивилизованности» и «варварства», «востока» и «запада» в дискурсе сексуального насилия во время и после войны; анализ причин «умолчания» о сексуальном насилии на Восточном фронте в Германии и его табуирование в российской историографии. При существующем в отношении памяти о Второй мировой войне девизе – никто не забыт, ничто не забыто, – статья показывает, что память эта исключительно выборочна и на деле подвергает «вечному забвению» все те события, которые не попадают в трактовки, сложившиеся после войны по обе стороны фронта. Российская историография несвободна от доминирующих в обществе оценок: пафос памяти о Великой Отечественной войне заставляет сторониться женского опыта, немецкая память о вой- не нагружена воспоминаниями о притеснениях немцев в период оккупации, поэтому тема сексуального насилия добавляет эмоциональный заряд образу немецкого народа как жертвы.
|
|||
| Если
речь идет о войне, то насилие представляется чем-то само собой
разумеющимся: в этом случае сексуальное насилие на оккупированных территориях рассматривается как неминуемое следствие военного вторжения (Gestrich 1996). Потому акцент при обсуждении этой темы заметно смещается в область социальной политики – оказания помощи жертвам насилия, и преодоления их травматического опыта. На фоне небывалого размаха насилия во время Второй мировой войны и выходящей за границы человеческого воображения степени изуверства (Gleichmann, Kühne 2004), сексуальное насилие в общественном дискурсе оставалось в области приватного и только в последние десятилетия стало в Западной Европе предметом активного внимания со стороны историков, психологов, оказавшись в центре громких медиаскандалов (Доулинг 2008). Для Германии описание сцен массовых изнасилований обладает в коллективной памяти о войне особым статусом именно потому, что жертвой здесь выступают немецкие женщины. Как показали результаты исследований устной истории, в деревнях и маленьких поселениях Германии, жители даже спустя 60 лет после войны могли едва ли не поименно назвать пострадавших от оккупационных войск жительниц деревни (Satjukow 2008: 338). В последние десятилетия XX в. эта тема активно инструментализировалась средствами массовой информации европейских стран и обсуждалась в Германии в рамках дискурса «катастрофы последнего периода войны» и жертв со стороны мирного немецкого населения (Jureit, Schneider 2010). С одной стороны, жертвы насилия полагаются нуждающимися в помощи и реабилитации. С другой – акцентуация определенных актов на- силия и замалчивание других, как будет показано ниже, может быть механизмом манипулирования памятью или стратегией выстраивания определенной политики памяти. Я предлагаю проанализировать, каким образом сексуальное насилие становится предметом политики памяти в двух разных контекстах: послевоенной Германии и в Советском Союзе. Для этого в статье будут проанализированы базовые тропы в изучении сексуального насилия во время войны в этих странах, будет показан выборочный характер памяти о сексуальном насилии и взаимосвязь этой памяти с послевоенной социальной политикой в обеих странах. Базовые тропы историографии Субъектами сексуального насилия в европейской памяти о Второй мировой войне стали, в основном, советские солдаты (Henke 1995: 200–201). В немецкоязычной научной литературе можно обнаружить и отдельные исследования о насилии со стороны американских, французских и британских оккупационных войск (Gebhardt 2015; Ahrens 2011; Dörr 1998: 375–447). При отсутствии каких-либо надежных статистических данных, убеждение в том, что советские солдаты насиловали больше, остается общим местом в общественном дискурсе: Конечно <…> солдаты других союзных армий, наступавших с Запада, также были виновны в сексуальном насилии. Но большинство специали- стов считает, что наиболее острый характер эта проблема приобрела на востоке Германии. По оценкам историков, в последние месяцы войны было изнасиловано почти 2 миллиона немок – женщин и девочек; многие из них неоднократно (Доулинг 2008). Упомянутые здесь два миллиона, по словам одной из американских исследовательниц Атины Гроссманн, «выглядят явным преувеличением», но продолжают приводиться как аргумент. По ее данным, наиболее реалистичной можно считать цифру в 110 тыс. (Grossmann 1995: 110). По какой причине эти цифры сохраняют свое магическое влияние в европейском общественном и даже, отчасти, научном дискурсе? В большинстве случаев они приводятся не для какого-либо количественного сравнения, а для того, чтобы подчеркнуть масштабность произошедшего. Ключевым моментом дискурса сексуального насилия является его массовый характер. Массовость изнасилований со стороны советских солдат использовалась в дискурсе послевоенной Западной Германии для эмоционального уравновешивания с массовыми преступлениями нацистов – в результате и та, и другая сторона являются жертвами, и, по большому счету, никто не виноват (Münch 2009). Для современного читателя массовое изнасилование является откровенным варварством, поскольку в данном случае насилие не только направлено на «слабых» женщин и маленьких девочек, но еще и сопряжено с особо болезненным способом унижения. Потому эта тема автоматически отсылает к сравнению «цивилизованного западного мира» с «восточным варварством» (Baberowski 2012: 438). В эту ловушку легко попадают даже такие именитые исследователи насилия, как Йорг Баберовский, объяснявший массовые изнасилования в советской зоне тем, что «советские мужчины пытаются заполучить хоть небольшое удовлетворение своего комплекса неполноценности перед цивилизованной нацией»1 (Baberowski 2012: 437). Несмотря на то, что большинство немецких историков вряд ли согласятся с вышеприведенным мнением (Koenen 2012: 81–88), удивительная живучесть подобной интерпретации говорит об отсутствии выработанного и общепризнанного механизма анализа этой темы в европейской исторической науке, а также о существующей в Германии потребности эмоционального подтверждения «объяснений» чрезмерной жестокости во время Второй мировой войны. С российской стороны тема сексуального насилия во время войны до сих пор продолжает упорно табуироваться, а интерес к ней проявляется, в основном, как защитная реакция на сообщения европейских СМИ. Например, упомянутый выше отрывок из немецкого журнала «Шпигель» не один раз обошел российские новостные сайты и блоги. Однако за этим всплеском активности не последовало никакой серьезной аналитики и даже сексуальные преступления Вермахта на территории Советского союза изучаются, прежде всего, немецкими исследователями (Römer 2011: 331–352; Nolte 2009: 113–133; Eschebach, Mühlhäuser 2008). Если отечественные историки и предлагают сравнение опыта сексуального насилия на Восточном фронте с более изученной историей сексуального насилия на территории оккупированной Германии, то, в подавляющем большинстве, не из соображений поиска аналитического инструмента, как, например, Ханс-Хайнрих Нольте (Nolte 2009: 129), а ради дальнейшей мультипликации тропа Красной Армии как армии-освободительницы. Причина отсутствия исследований сексуального насилия на Восточном фронте кроется не только и не столько в «узкой источниковой базе» (Nolte 2009: 129). Еще в 1995 г. американский историк Норман Наймак поставил на этой проблеме крест, заявив: «[т]ема сексуального насилия во время Второй мировой войны в СССР табуировалась, ни мемуары, ни какая-либо другая литература того периода их не обсуждает» (Naimark 1995: 85). Последний тезис крайне распространен в историографии, несмотря на массу возможностей убедиться в обратном. Тема изнасилований оказы- вается одной из центральных в дневниковых записях офицеров и солдат на фронте (Budnitskii 2009: 629–682). Она табуировалась уже после войны, но не в период военных действий: как советские, так и немецкие солдаты пишут в своих фронтовых записках о сексуальных контактах с женщинами оккупированных территорий. Так, основу источниковой базы работы немецкой исследовательницы Регины Мюлхойзер «Сексуальное насилие и интимные отношения немецких солдат на территории Советского Союза в 1941–1945 годах» (Mühlhäuser 2008) составили дневниковые записи немецких солдат, их письма с фронта, свидетельства очевидцев, а также корреспонденция различных ведомств, в том числе и полевых судов Вермахта. Потому неизученность темы сексуального насилия была, скорее, связана не с недостаточностью источников, а с нежеланием ее исследовать. «Никто не забыт, ничто не забыто»: избирательность памяти и о войне В нежелании помнить или желании забыть нет ничего нового. Тем не менее, в случае Второй мировой войны в общественном дискурсе, как России, так и Германии действует обратный призыв: «никто не забыт, ничто не забыто». Как, однако, показывает практика коммеморации, эта память имеет выборочный характер и подвергает вечному забвению все те события, которые не попадают в сложившиеся в послевоенные годы трактовки. Показательным примером служат музейные выставки к 65-летию победы в России, скандальная выставка 1995–1997 гг. «Преступления Вермахта» в Германии (см. статью Кауганова в этом номере). В российском случае из памяти исключается все, что не служит героической репрезентации войны, а потому даже проекты, задуманные с целью показать «другое лицо войны», с легкостью Оруэловского двоемыслия репродуцируют наследие советской идеологии, без какого-либо критического анализа «созданности» идеологического образа (Воронина 2011). Героический этос так влиятелен, что даже материал о репрессиях или письма с фронта Ефима Хозумова, посылавшего умирающей от голода в глубоком тылу семье деньги, ему ничуть не мешают: «[п]еред нами по-прежнему не трагедия людей, участвовавших в войне, но предмет их гордости и величия» (Воронина 2011). В немецком варианте общество охотно следует старому тропу «рассказывать о войне, молчать о преступлениях» (Rosenthal 1995: 651–663). Вина перекладывается на специальные подразделения СС, тогда как Вермахт, т. е. большая часть армии, в коллективной памяти остается незапятнанной преступлениями в отношении мирного населения. Именно этот миф о «чистом вермахте» и пытались сломать организаторы выставки «преступления вермахта», в результате чего натолкнулись на сопротивление и возмущение значительной части общества. Выставка, открытая в 1995 г. в Гамбурге, экспонировала фотографии и документы, показывающие издевательства немецких солдат над мирным населением Советского Союза. Она вызвала общественный скандал и была, в результате, закрыта, но снова открыта через два года в Бремене. Причины подобного упорства имеют массу источников, которые можно вскрыть при внимательном анализе инструментализации или замалчивания вопроса сексуального насилия. Историки, в этом случае, также несвободны от доминирующих в обществе оценок, будь то российский троп об «армии-освободительнице», или немецкий – о «чистом Вермахте». Сам факт существования подобного мифа кажется немыслимым человеку, выросшему в Советском Союзе. В отличие от ГДР, где советские во- йска репрезентовались в общественной памяти как освободители, а немецкое население социалистической Германии – как антифашисты, в За- падной Германии нацистские преступления на Восточном фронте были вытеснены из памяти о войне: Оба самых страшных и тесно взаимосвязанных преступления нацизма – холокост и военная кампания на восточном фронте – получили различное развитие в памяти о войне в ФРГ и ГДР. Если в Западной Германии воспоминания о преступлениях нацизма концентрировались на уничтожении евреев, то официальная память о войне в ГДР формировалась вокруг нападения Германии на Советский Союз (Morina 2008: 257–258). Полемично настроенные организаторы упомянутой выставки о преступлениях Вермахта, например, Ханнес Хеер, говорят о смещении воспоминаний в сторону нового варианта коммеморации: немецкий народ – жертва Третьего рейха. Его книга, вышедшая в 2004 г., носит название «Замалчивая преступления. Война массового уничтожения имела место, но никто в ней не участвовал» (Heer 2004). Тем самым он метит в доминирующий в последние десятилетия в научной литературе тренд по изучению страданий немецкого мирного населения в годы войны. Начиная с 1990-х гг. все больше книг в Германии посвящается так называемой Bombenkrieg – разрушению немецких городов в конце войны, а также мародерству оккупационных войск, изгнанию мирного немецкого населения из Прибалтики и территории нынешней Польши. Современная немецкая память о войне нагружена воспоминаниями о притеснениях немцев в период оккупации и в послевоенные годы. Тема сексуального насилия добавляет серьезный эмоциональный заряд образу немецкого народа как жертвы. Только в 1980-е гг. в ФРГ стали открыто говорить о «войне на уничтожение» (Vernichtungskrieg) – так в Германии называют восточную кампанию нацистов. Опубликованная в 1987 г. в газете «Цайт» статья Вольфрама Ветте «Ограбить, разрушить, уничтожить. Бремя 1941 года. Поход против Советского Союза был с самого начала войной, направленной на разграбление и уничтожение» открыла эту тему для обсуждения в немецкой прессе (Wette 1987: 49–51). Последовало несколько конференций и исследований преступлений нацизма на Восточном фронте, что способствовало прочному утверждению термина Vernichtungskrieg в немецкой историографии (Jahn, Rürup 1991). Тема сексуального насилия играла в этом процессе особую роль и использовалась, как показала Элизабет Хайнеман, для того чтобы подчеркнуть отличие от Советского Союза (Heineman 1996: 354–394). Как утверждалось, за массовыми изнасилованиями скрывается менталитет, представлявший для европейского человека нечто дикое и чужое. Официальный дискурс Холодной войны приписывал советским войскам этот «азиатский» менталитет, который сводит женщину до ранга «заслуженного приза победителя». Поскольку в составе советских войск были представители азиатских республик, то этот миф выглядел в глазах немцев еще более убедительным: даже в современных немецких работах, для репрезентации образа советского солдата, авторы – скорее всего, бессознательно – выбирают фотографии не блондинов с голубыми глазами, а темнокожих, с узкими глазами и широкими скулами. Самая первая фотография в книге, открывающая главу о выводе советских войск с территории бывшей ГДР, демонстрирует немецкому читателю образ Другого – солдата в шапке ушанке, черноволосого, с узкими глазами и широкими скулами (Satjukow 2008: 9). В дискурсе памяти времен холодной войны изнасилования советскими солдатами немецких женщин в 1945 г. представлялись как «азиатское» нарушение европейских норм, а отступление немецких войск стилизовалось как наступление «азиатов» на традиции и ценности западной цивилизации. Изнасилованные женщины функционируют как действенная метафора для изображения притеснения всего немецкого народа (Heineman 1996). По мнению Кристины Мориной, воспоминания о преступлениях на Восточном фронте на протяжении многих лет оставались в Западной Германии темой, вытесненной из официальной памяти (Morina 2008: 258). Из-за холодной войны Советский Союз представлял собой главную угрозу для Запада – коммунизм. Более того, подключался также и цивилизаторский (колониальный) дискурс – борьба западного цивилизованного общества с опасными варварами. Это сделало возможным утверждение мифа о «чистом» Вермахте. В героическом дискурсе Красной армии как освободительницы тема сексуального насилия не нашла применения. Возможно, это было связано с напряженным отношением в Советском Союзе к любому обсуждению сексуальной тематики и с активной инструментализацией образа женщи- ны, прежде всего, как матери. Если посмотреть на плакаты и обращения периода Второй мировой войны, то в Советском союзе, гораздо более, чем, например, во время войны с Наполеоном («Отечество в опасности»), инструментализировался образ родины-матери («Родина мать зовет»), тогда как в немецком языке родина – это, прежде всего, отечество (Vaterland) и дословно означает «земля отца». Советская память о войне «игнорировала женский опыт», а многомиллионная армия женщин, в ней участвовавшая, как пишет Ольга Никонова, «растворилась в официальной мемориальной культуре» вместе с их особой повседневностью, превратившись «в невидимых солдат Великой войны»: «[п]афосность и монументализм мифа о Великой Отечественной войне до сих пор сторонятся женского взгляда и альтернативных моделей интерпретации военного опыта» (Никонова 2005: 289). Страдания мирного населения не могут добавить пафоса этому мифу, а потому даже истории таких прославленных мучеников как, например, Зоя Космодемьянская, репрезентовались без концентрации внимания на их телесных страданиях и сексуальных коннотациях. Известная фотография истерзанного тела Космодемьянской с отрезанной грудью, хотя и вошла в фотоальбом о Великой отечественной войне, была малоизвестна в СССР, и ее тем более невозможно представить на стендах пионерской организации имени Зои Космодемьянской. Замалчивание сексуального насилия с возвращением к патриархальному порядку Где же проходит эта граница умолчания о сексуальном насилии? Несмотря на всю болезненность и сложность для изучения сексуального на- силия во время Второй мировой войны, монографические исследования по этому вопросу начали появляться в Германии уже в 1970-е гг. (Brownmiller 1976). В журнале «Шпигель», цитировавшемся в начале статьи, данная тема затронута в связи с выходом на экраны в 2008 г. польско-немецкого фильма «Безымянная – одна женщина в Берлине». Легшие в основу фильма воспоминания были опубликованы в 1954 г. на английском, а в 1959 г. – на немецком языке (Eine Frau in Berlin 1959) но, тогда они не нашли читателя. После смерти автора в 2001 г. они были переизданы, и стали бестселлером. Это говорит о перемене настроения европейского общества и появлении новых точек «коммеморации» в отношении войны. Одна из исследовательниц темы сексуального насилия на Восточном фронте Регина Мюлхойзер отмечает общую направленность немецких масс- медиа: «[в] противовес замалчиванию сексуальных преступлений Вермахта, которые по сей день остаются весьма малоизученными, изнасилования, совершенные советскими солдатами, являются постоянным предметом скандалов в прессе» (Mühlhäuser 2008). Нарастание этой тенденции, – считает она, – можно проследить, начиная с фильма Барбары Йор и Хельки Сандер «Освободители и освобожденные» (1992 г.), за которым последовало переиздание воспоминаний «Безымянная – одна женщина в Берлине» в 2003 г. и двухсерийный телевизионный фильм немецкого канала ЦДФ «Бегство» (2007 г.). Свой повышенный интерес к сексуальному насилию по отношению к населению Германии авторы упомянутых проектов объясняют стремлением разбить табу и, наконец, заговорить открыто. Однако по словам профессора колумбийского университета Атины Гроссманн: [и]знасилование – есть в данном контексте не просто изнасилование, оно здесь вписано в определенный исторический контекст. Германия в 1945 году, это не Босния в 1990-е и не улицы современного Нью-Йорка или чье-нибудь супружеское ложе (Grossmann 1995: 112). Поэтому здесь опасно вести описание события лишь с точки зрения жертвы, для которой оно является частью личной драмы, а необходимо рас- сматривать и весь исторический контекст. В Германии тема изнасилований с начала обсуждения идеологически нагружена; и в период самой оккупации, и после окончания войны она не замалчивалась. Как подробно показывает в своей статье Гроссманн, в первые месяцы оккупации немецкие женщины свободно говорили об изнасилованиях не только в своих дневниках и воспоминаниях, но и открыто обсуждали между собой, например, в очереди за водой (Grossmann 1995). Еще до вступления советских войск в Берлин они были проинформированы нацисткой пропагандой о предстоящем насилии. Пропаганда представляла советские войска как не знающие милосердия дикие орды Чингисхана, которые уничтожат все на своем пути. Этот образ дикого «монгола», которым были переполнены пропагандистские плакаты, использовался нацистской властью в качестве жупела, заставлявшего население бороться и тогда, когда война была уже очевидно проиграна (Henke 1995: 87). Как пишет Гроссманн, население Германии если и не было проинформировано о преступлениях на Восточном фронте, то догадывалось и знало по слухам о том, что поведение войск Вермахта и СС на территории Советского Союза превысило границу известной прежде военной жестокости, и потому ожидало ответной мести (Grossmann 1995: 113). Нацистская пропаганда активно использовала призывы Эренбурга – «отомсти», или статью из Правды от 14 апреля 1945 г. «Убей немца», чтобы представить немецкому населению все те ужасы, которые их ожидают под советской оккупацией. В мемуарной литературе, особенно в дневниках, написанных непосредственно во время событий, советские офицеры много пишут о том, какой пустынной и запуганной они застали Германию, а также и о мести по отношению к немецкому населению со стороны советских войск (Копелев 2004). Заранее подготовленное нацистской пропагандой, немецкое население, увидев сцены грабежей или насилия, еще больше уверовало в «азиатские толпы». Вопрос о сексуальном насилии в Германии с самого начала был признан социальной и медицинской проблемой. Изнасилованные женщины получали медицинскую помощь, а также возможность избавиться от нежелательной беременности: 218 статья нацистского уголовного кодекса, запрещавшая аборты, с самого начала оккупации практически игнорировалась, а на территории советского сектора была официально отменена (Ericsson, Simonson 2005: 174). Постепенно немецкое население научилось уживаться с оккупационными войсками и договариваться с ними. Сексуальные отношения между солдатами/офицерами и немецкими женщинами имели тут разные стороны – и прямое насилие, и сожительство из прагматических соображений, и романтические увлечения. Владимир Гельфанд описывает в дневнике свои ухаживания за немецкой девушкой: Мать девушки осталась довольна мною. Еще бы! На алтарь доверия и расположения со стороны родных мною были принесены конфеты и масло, колбаса, дорогие немецкие сигареты. Уже половины этих продуктов достаточно, чтобы иметь полнейшее основание и право, что угодно творить с дочерью на глазах матери, и та ничего не скажет против. Ибо продукты питания сегодня дороже даже жизни, и даже такой юной и милой чувственницы, как нежная красавица Маргот (Гельфанд 2004: 26.10.1945). Сексуальное насилие не замалчивалось и не табуировалось до тех пор, пока мужчины не вернулись с фронта, и не началось восстановление старого патриархального общества (Budde 1997: 244): работающие женщины были уволены со своих постов, чтобы освободить им место. Опыт пережитого изнасилования не был постыдным в рамках оккупации, но стал замалчиваться впоследствии «ради признанной в обществе женской роли, которой женщины и сами всячески стремились соответствовать» (Grossmann 1995: 118; Zipfel 1995: 460–474). Сексуальное насилие немецких войск над мирным населением Советского Союза так же не скрывалось, и в первое время после освобождения открыто обсуждалось. На Нюрнбергском процессе приводились слова женщин, ставших свидетельницами изнасилований. Вот показания из материалов Нюрнбергского процесса: 16-ти летнюю Л. И. Мечникову солдаты увели по приказу офицера Хуммера в лес, где они ее изнасиловали. Через некоторое время другие жен- щины, которых тоже завели в лес, увидели на дереве доски, к которым было прибито тело Мечниковой. На глазах женщин немцы отрезали у нее грудь (Der Prozess… 1984: 502). Сексуальное насилие рассматривалось как часть массовых преступлений нацистов на территории Советского Союза и стало «семейной пробле- мой», также как и в Германии, уже с возвращением мужчин с войны. Этот механизм хорошо показан в фильме «Бабье царство» (1967 г.). В самом начале фильма немецкий солдат пытается изнасиловать девочку лет 15-ти, Дуняшу. Присутствующие при этом женщины, обсуждают на завалинке нацистские бесчинства в соседних деревнях, и стараются успокоить себя мыслью, что им достался «добрый немец». Одна из них Настя Петренко, бросает себя немецкому солдату «как кусок мяса» , вместо девочки, которая «потом непременно удавится». Несмотря на то, что для Насти Петренко это событие стало трагедией, в «бабьем царстве», ее личный «позор» не становится позором общественным. Она оказывается в состоянии жить с этим опытом до тех пор, пока ее возлюбленный Костя Лубенцов не бросает ее, узнав об этом. Только тогда пережитый опыт становится ей «хуже смерти», и она пытается покончить жизнь самоубийством. В послевоенный период патриархальное общество выстраивается заново, и в этом контексте сексуальное насилие, пережитое женщинами окку- пированных территорий, становится проблемой для мужчин. Страдания женщин выступают здесь как латентное обвинение мужчинам, не сумевшим защитить свои дома: «вы нас немцам в добычу оставили», – говорит одна из героинь «Бабьего царства». Вследствие активного восстановления патриархальных ценностных категорий после войны (при активном участии власти), тема сексуального насилия вытесняется из официального дискурса в Советском союзе и появляется как маргинальная проблематика только на короткий момент в период оттепели, на волне переосмысления страданий, которые приносит «простому человеку» война. К этому периоду как раз и принадлежит фильм «Бабье царство». ***
Подводя итоги, еще раз повторюсь – тема сексуального насилия обладает особым статусом в памяти о Второй мировой войне и потому изучение ее коннотаций и инструментализации требует деликатности. Здесь сексуальное насилие вписано в определенный исторический контекст и не может изучаться в отрыве от него. Несмотря на все многолетние попытки работы с этой болезненной темой, исследователи продолжают возвращаться к ней, но даже в 2015 г. обнаруживают, что в общественном дискурсе она покрыта мифами, а с точки зрения анализа источников представляет собой белое пятно (Gebhardt 2015: 12–13, 44). Исследователи оказались здесь в замкнутом круге: выстраивая нарратив этой «обыкновенной истории» с точки зрения жертвы, автор неминуемо сообщает ей мощный эмоциональный заряд и теряет, таким образом, академическое равновесие. Изучая этот вопрос только в рамках национального дискурса – либо впадает в одну из существующих инструментализаций темы, либо углубляется в развенчание мифов, вынужденно оставаясь в своем анализе на поверхности дискурсов. Исследования сексуального насилия отличаются выборочностью источников, что служит определенной окраске политики памяти или отражает ее в научной работе в Германии. В современной России продолжается советская традиция замалчивания этой темы в работах о войне, тем самым поддерживая исключительно героическую версию политики памяти. Наиболее плодотворным представляется путь изучения сексуального насилия с обеих сторон фронта, на основании имеющейся официальной документации и личных источников. Наибольший успех такая работа может иметь при международной кооперации ученых и признании необходимости изучения темных страниц совместного прошлого. Список источников Воронина Т. Как читать письма с фронта? Личная корреспонденция и память о Второй мировой войне // Неприкосновенный запас. 2011. 77 (3): 159–175. Гельфанд В. Н. Дневники 1941–1946, 2004 // https://clck.ru/9Ws7E (дата обращения: 27.01.2015). Доулинг Ш. Сексуальное насилие в годы Второй мировой войны ("Der Spiegel"), 2008 // https://clck.ru/9Ws7z (дата обращения: 02.06.2012). Копелев Л. Хранить вечно. М.: Терра, 2004. Никонова О. Женщины, война и «фигуры умолчания» // Неприкосновенный запас. 2005. 40–41 (2–3): 282–289. Ahrens M. Die Briten in Hamburg. Besatzerleben 1945–1958. München: Dölling und Galitz, 2011. Baberowski J. Verbrannte Erde. Stalins Herrschaft der Gewalt. München: C. H. Beck. 2012. Budde G. – F. "Tüchtige Traktoristinnen" und "schicke Stenotypistinnen". Frauenbilder in den deutschen Nachkriegsgesellschaften-Tendenzen der "Sowjetisierung" und "Amerikanisierung"? // K. Jarausch (Hg.) Amerikanisierung und Sowjetisierung in Deutschland 1945–1970. Frankfurt/Main: Campus-Verl, 1997: 243–273. Budnitskii O. The Intelligentsia Meets the Enemy. Eucated Soviet Officers in Defeated Germany // Kritika. 2009. 10 (3): 629–682. Brownmiller S. Against our Will: Man, Woman and Rape. New York: Fawcett Book, 1976. Der Prozess gegen die Hauptverbrecher von dem Internationalen Militärgerichtshof 14.11.1945– 01.10.1946. München-Zürich. 1984. Bd. 7. Dörr M. "Wer die Zeit nicht miterlebt hat…". Frauenerfahrungen im Zweiten Weltkrieg und in den Jahren danach. Frankfurt/Main: Campus-Verl, 1998. Eine Frau in Berlin: Tagebuchaufzeichnungen. Frankfurt: Kossodo, 1959. Ericsson K, Simonson E. (eds.) Children of World War II: The Hidden Enemy Legacy. New York: Berg Publishers, 2005. Eschebach I., Mühlhäuser R. (eds.) Handlungsräume. Sexuelle Gewalt durch Wehrmacht und SS in den besetzten Gebieten der Sowjetunion 1941–1945. Berlin: Metropol Verlag, 2008. Gebhardt M. Als die Soldaten kamen. Die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs. München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2015. Gestrich A. (ed.) Gewalt im Krieg. Ausübung, Erfahrung und Verweigerung von Gewalt in Kriegen des 20. Jahrhunderts. Münster: Lit, 1996. Gleichmann P., Kühne T. (eds.) Massenhaftes Töten. Kriege und Genozide im 20. Jahrhundert. Essen: Klartext-Verl, 2004. Grossmann A. Eine Frage des Schweigens? Die Vergewaltigung deutsche Frauen durch Besatzungssoldaten // Sozialwissenschaftliche Informationen. 1995. 24 (2): 109–119. Heineman E. The Hour of Women. Memories of Germany’s Crisis Years and West German Identity // American Historical Review. 1996. (1): 354–394. Heer H. Vom Verschwinden der Täter: Der Vernichtungskrieg fand statt, aber keiner war dabei. Berlin: Aufbau-Verl. 2004. Henke K. – D. Die amerikanische Besetzung Deutschlands. München: Oldenbourg, 1995. Jahn P., Rürup R. (eds.) Erobern und Vernichten. Der Krieg gegen die Sowjetunion 1941–1945. Essays. Berlin: Argon, 1991. Jureit U., Schneider C. Gefühlte Opfer. Illusionen der Vergangenheitsbewältigung. Stuttgart: Klett-Cotta, 2010. Koenen G. Weil es Stalin gefiel? Zu Jörg Baberowskis Deutung des Stalinismus // Osteuropa. 2012. 62 (4): 81–88. Morina C. Vernichtungskrieg, Kalter Krieg und politisches Gedächtnis: Zum Umgang mit dem Krieg gegen die Sowjetunion im geteilten Deutschland // Geschichte und Gesellschaft. 2008. (2): 252–291. Mühlhäuser R. Konkurrierende Erzählungen zu sexueller Gewalt im Zweiten Weltkrieg, in DDR, Bundesrepublik und nach 1989 // Phase 2. 2008. (28): 46–49. Münch I. v. "Frau, komm!" Die Massenvergewaltigungen deutscher Frauen und Mädchen 1944/45. Graz: Ares-Verl, 2009. Naimark N. The Russians in Germany. A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945–1949. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995. Nolte H. – H. Vergewaltigungen durch Deutsche im Russlandfeldzug // Zeitschrift für Weltgeschichte. 2009. (1): 113–133. Römer F. Gewaltsame Geschlechterordnung. Wehrmacht und "Flintenweiber" an der Ostfront 1941/42 // S. Förster, B. Wegner, K. Latzel, F. Maubach, S. Satjukow (eds.) Soldatinnen. Gewalt und Geschlecht im Krieg vom Mittelalter bis heute. Paderborn: Schöningh, 2011: 331–352. Rosenthal G. Vom Krieg erzählen, von den Verbrechen schweigen // H. Heer (ed.) Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941–1944. 2. Aufl. Hamburg: Hamburger Ed, 1995: 651–663. Satjukow S. Besatzer. "die Russen" in Deutschland 1945–1994. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008. Wette W. Erobern, zerstören, auslösen. Die verdrängte Last von 1941. Der Russlandfeldzug war ein Raub- und Vernichtungskrieg von Anfang an // Die Zeit. 20.11.1987. (48): 49–51. Zipfel G. Wie führen Frauen Krieg? // H. Heer (Hg.) Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941–1944. 2. Aufl. Hamburg: Hamburger Ed, 1995: 460–474. Цитаты на иностранном языке даны в переводе автора – Прим. ред. Вера Сергеевна Дубина – к. и.н., доцент кафедры истории Московской высшей школы социально-экономических наук, Россия. |
|||
 |
Vera Dubina1"Ordentliche Geschichte" des Zweiten Weltkrieges: Der Hauptzweck dieses
Artikels besteht darin, die bestehenden Forschungslücken im
Bereich der sexuellen Gewalt während des Zweiten Weltkriegs zu
analysieren sowie mögliche Perspektiven für die
Weiterentwicklung der Thematik aufzuzeigen. Vor dem Hintergrund des offiziellen Mottos der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg – "Niemand wird vergessen, nichts wird vergessen" – zeigt der Artikel, dass das kollektive Gedächtnis tatsächlich sehr selektiv ist. Viele Ereignisse, die nicht in die offizielle Interpretation beider Seiten der Front passen, werden dem "ewigen Vergessen" anheimgegeben. Die russische Historiographie ist nicht frei von den dominierenden gesellschaftlichen Wertvorstellungen: |
|||
|
Im Kontext des
Krieges erscheint Gewalt oft als selbstverständlich –
insbesondere sexuelle Gewalt in besetzten Gebieten wird als
unmittelbare Folge militärischer Invasionen wahrgenommen (Gestrich
1996). Vor dem Hintergrund eines historisch beispiellosen Ausmaßes sexueller Gewalt (Gleichmann, Kühne 2004) blieb dieses Thema im öffentlichen Diskurs lange Zeit auf den privaten Bereich beschränkt. Erst in den letzten Jahrzehnten wurde sexuelle Gewalt in Westeuropa zu einem Gegenstand verstärkter Aufmerksamkeit von Historikern und Psychologen und geriet zudem ins Zentrum aufsehenerregender Medienskandale (Dowling 2008). In Deutschland
besitzt die Darstellung von Massengewaltverbrechen einen besonderen
Status im kollektiven Gedächtnis des Krieges – gerade weil
die Opfer deutsche Frauen waren. Auf der einen Seite stehen die Opfer sexueller Gewalt als Bedürftige von Hilfe und Rehabilitationsmaßnahmen im Fokus. Ich schlage daher
vor, zu analysieren, wie sexuelle Gewalt zum Gegenstand einer
Erinnerungspolitik in zwei unterschiedlichen Kontexten wurde: im
Nachkriegsdeutschland und in der Sowjetunion. Grundlagen der Geschichtsschreibung Das Thema sexueller
Gewalt im europäischen Gedächtnis an den Zweiten Weltkrieg
konzentrierte sich lange Zeit hauptsächlich auf sowjetische
Soldaten (Henke 1995: 200–201). Natürlich kam es auch in den westlich vorrückenden alliierten Armeen zu sexueller Gewalt. Diese oft zitierte Zahl von zwei Millionen scheint, wie die amerikanische Forscherin Atina Grossmann betont, eine eklatante Übertreibung zu sein, wird jedoch weiterhin häufig als Argument angeführt. In den meisten
Fällen werden sie nicht für einen quantitativen Vergleich
herangezogen, sondern um das Ausmaß der Ereignisse zu
unterstreichen. Für den
modernen Leser stellt Massenvergewaltigung eine Form besonders brutaler
Barbarei dar, weil sich die Gewalt nicht nur gegen schwache Frauen und kleine Mädchen richtet, sondern eine besonders demütigende Form der Gewaltanwendung verkörpert. Selbst bedeutende
Gewaltforscher wie Jörg Baberowski greifen in diesem Kontext zu
erklärenden Mustern, etwa indem sie Massenvergewaltigungen in der
Sowjetzone als einen Versuch sowjetischer Männer deuten, „wenigstens
ein Minimum an Befriedigung für ihren Minderwertigkeitskomplex
gegenüber einer zivilisierten Nation zu erlangen“ (Baberowski 2012: 437). Auf russischer Seite bleibt das Thema sexueller Gewalt während des Krieges nach wie vor hartnäckig tabuisiert. Wenn russische
Historiker den Versuch unternehmen, die Erfahrungen sexueller Gewalt an
der Ostfront zu thematisieren, dann geschieht dies überwiegend
nicht analytisch, sondern mit dem Ziel, das Bild der Roten Armee als
Befreier zu bewahren. Bereits 1995 erklärte der amerikanische Historiker Norman Naimark, dass das Thema sexueller Gewalt während des Zweiten Weltkriegs in der UdSSR tabuisiert gewesen sei: „Das Thema wurde in den Memoiren und in anderer zeitgenössischer Literatur kaum behandelt.“ (Naimark 1995: 85). Diese These ist in der Historiographie weit verbreitet, obwohl zahlreiche Quellen existieren, die das Gegenteil belegen. Die Quellenbasis, auf der etwa die Arbeit der deutschen Historikerin Regina Mühlhäuser „Sexuelle Gewalt und intime Beziehungen deutscher Soldaten in der Sowjetunion 1941–1945“ (Mühlhäuser 2008) beruht, umfasst Tagebücher deutscher Soldaten, Briefe von der Front, Augenzeugenberichte sowie verschiedene amtliche Korrespondenzen, darunter Unterlagen der Wehrmachtsjustiz. Daraus ergibt sich: Die mangelnde Erforschung sexueller Gewalt lag weniger am Fehlen von Quellen, sondern vielmehr am mangelnden Willen, sich diesem Thema zuzuwenden. "Niemand ist vergessen, nichts ist vergessen": die Selektivität der Erinnerung und des Krieges Im Wunsch zu vergessen oder im Unwillen, sich zu erinnern, liegt nichts Neues. Im russischen Fall
wird all das aus dem kollektiven Gedächtnis eliminiert, was nicht
in das heroische Narrativ des Krieges passt. In Deutschland hingegen folgt die kollektive Erinnerung lange Zeit der Maxime: „Über den Krieg sprechen, über die Verbrechen schweigen“ (Rosenthal 1995: 651–663). Diese
Beharrlichkeit lässt sich durch zahlreiche Quellen erklären,
die belegen, wie die Instrumentalisierung oder Unterdrückung des
Themas sexuelle Gewalt zur Stabilisierung gesellschaftlicher
Selbstbilder beitrug. Die bloße Existenz eines solchen Mythos erscheint einem in der Sowjetunion aufgewachsenen Menschen kaum vorstellbar. Die eng miteinander
verbundenen schlimmsten Verbrechen des Nationalsozialismus – der
Holocaust und der Vernichtungskrieg im Osten – entwickelten sich
in Westdeutschland und in der DDR unterschiedlich im kollektiven
Gedächtnis. Polemisch ausgerichtete Organisatoren wie Hannes Heer erklärten, dass die Ausstellung „Verbrechen der Wehrmacht“ eine neue Erinnerungsperspektive eröffnen sollte: die Darstellung des deutschen Volkes als Opfer des Dritten Reiches. Seit den 1990er
Jahren wurden in Deutschland zahlreiche Bücher über den
sogenannten Bombenkrieg – die Zerstörung deutscher
Städte am Ende des Krieges – sowie über
Plünderungen durch Besatzungstruppen und die Vertreibung deutscher
Zivilisten aus dem Baltikum und Polen veröffentlicht. Erst in den 1980er Jahren begann man in Deutschland, offen über den Vernichtungskrieg – die Nazi-Kampagne im Osten – zu sprechen. In diesem Kontext
wurde auch das Thema sexuelle Gewalt instrumentalisiert, um – wie
Elisabeth Heineman zeigt – den Gegensatz zur sowjetischen Seite
hervorzuheben (Heineman 1996: 354–394). Da ein Teil der
Rotarmisten tatsächlich aus den asiatischen Republiken stammte,
wirkte dieser Mythos in der deutschen Wahrnehmung umso
überzeugender. Im Gedächtnisdiskurs des Kalten Krieges wurde die Vergewaltigung deutscher Frauen 1945 als ein Symbol für den Angriff asiatischer Barbaren auf die westliche Zivilisation inszeniert. Laut Christina
Morina blieb die Erinnerung an die Verbrechen an der Ostfront in
Westdeutschland lange aus dem offiziellen Gedächtnis
verdrängt (Morina 2008: 258). Im sowjetischen
Diskurs über den Großen Vaterländischen Krieg hingegen
spielte das Thema sexueller Gewalt keine Rolle. Wie Olga Nikonova
betont, wurden die Erfahrungen der Frauen – trotz ihrer
massenhaften Teilnahme am Krieg – in der sowjetischen
Erinnerungskultur weitgehend unsichtbar gemacht (Nikonova 2005: 289). Stille der sexuellen Gewalt mit einer Rückkehr zur patriarchalischen Ordnung Woher rührt das Schweigen über sexuelle Gewalt? Eine der
wichtigsten Forscherinnen zum Thema sexuelle Gewalt an der Ostfront,
Regina Mühlhäuser, beschreibt die generelle Ausrichtung der
deutschen Medienlandschaft so: [„Vergewaltigung – das ist in diesem Zusammenhang nicht einfach Vergewaltigung; sie ist historisch spezifisch eingebettet. Deutschland 1945 ist nicht Bosnien in den 1990er Jahren und nicht die Straßen des modernen New York.“] (Grossmann 1995: 112) Es sei gefährlich, das Ereignis ausschließlich aus der Perspektive der Opfer zu betrachten, ohne den historischen Kontext mit einzubeziehen. In Deutschland war das Thema Vergewaltigung von Anfang an ideologisch stark belastet. Wie Grossmann
betont, war sich die deutsche Bevölkerung – auch wenn sie
über die Verbrechen der Wehrmacht an der Ostfront nur
Gerüchte kannte – der extremen Brutalität bewusst und
erwartete Vergeltung (Grossmann 1995: 113). Sowjetische Offiziere beschrieben in ihren Tagebüchern häufig, wie sie auf eine verzweifelte, eingeschüchterte deutsche Bevölkerung trafen (Kopelev 2004), und wie sich die Vorstellungen von Rache in Handlungen gegen die deutsche Zivilbevölkerung entluden. Die deutsche
Gesellschaft erkannte die Problematik sexueller Gewalt frühzeitig
als soziale und medizinische Herausforderung. Allmählich
entstand ein pragmatischer Umgang mit den Besatzungstruppen: sexuelle
Beziehungen reichten von offener Gewalt über Zwangsgemeinschaften
bis hin zu romantischen Verbindungen. „Die Mutter des Mädchens war mit mir zufrieden. Natürlich! Ich brachte Süßigkeiten, Butter, Würste, teure deutsche Zigaretten – allein diese Gaben reichten aus, um Vertrauen zu gewinnen. Sie hätte mir erlaubt, mit ihrer Tochter zu tun, was ich wollte, denn Nahrung war mehr wert als das Leben selbst. Und Margot, diese junge, süße und sinnliche Schönheit, machte es leicht.“ (Gelfand, 26.10.1945) Sexuelle Gewalt blieb solange öffentlich diskutierbar, wie die Gesellschaft sich noch in einer Ausnahmesituation befand. Auch die sexuelle
Gewalt der deutschen Truppen gegen die sowjetische
Zivilbevölkerung wurde nach der Befreiung offen diskutiert. Ein erschütterndes Beispiel liefert die Aussage einer 16-jährigen Überlebenden, L. I. Mechnikowa: Sexuelle Gewalt wurde somit sowohl im sowjetischen als auch im deutschen Kontext als Teil der Kriegsverbrechen anerkannt. Ein anschauliches Beispiel dafür bietet der sowjetische Film „Das indische Königreich“ (1967): In der
Nachkriegszeit wurde die patriarchalische Gesellschaft
wiederhergestellt, und damit wurde die Erfahrung sexueller Gewalt
zunehmend zu einem Problem für Männer – Ausdruck ihres
Versagens, ihre Familien zu schützen. ***
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Forschung bewegt sich dabei in einem Teufelskreis: Die Studien zur
sexuellen Gewalt zeichnen sich häufig durch eine selektive
Quellenauswahl aus, die entweder die politische Gedächtnispolitik
widerspiegelt oder durch diese geprägt ist – etwa in der
wissenschaftlichen Arbeit in Deutschland. Am fruchtbarsten
erscheint daher ein Ansatz, der sexuelle Gewalt auf beiden Seiten der
Front untersucht – gestützt auf offizielle Dokumente ebenso
wie auf persönliche Quellen. "A COMMON STORY": THE DISCOURSE ON THE RAPE OF WOMEN DURING THE SECOND WORLD WAR The aim of this article is to address deficiencies in research on the topic of sexual violence during the Second World War by attempting to trace possible paths for future investigation. The author pays much attention to the role of the binary construct of "civilised men" versus "barbarian" and "East versus West" in the discourse surrounding sexual violence during and after the War. It shows the reasons for silence concerning rape on the Eastern front in comparative perspective. It explains why rape was so often overlooked by historians and society in Germany and made into a taboo issue in Soviet and Russian historiographical tradition. The article asserts that the difficulties in investigation of sexual violence on Eastern front during the Second World War can be explained not by a lack of primary sources but due to a lack of interest on the part of researchers. Ahrens M. (2011) Die Briten in Hamburg. Besatzerleben 1945–1958, München: Dölling und Galitz. Baberowski J. (2012) Verbrannte Erde. Stalins Herrschaft der Gewalt, München: Beck. Budde G. – F. (1997) "Tüchtige Traktoristinnen" und "schicke Stenotypistinnen". Frauenbilder in den deutschen Nachkriegsgesellschaften-Tendenzen der "Sowjetisierung" und "Amerikanisierung"? K. Jarausch (Hg.) Amerikanisierung und Sowjetisierung in Deutschland 1945–1970, Frankfurt/Main: Campus-Verl: 243–273. Budnitskii O. (2009) The Intelligentsia Meets the Enemy. Educated Soviet Officers in Defeated Germany. Kritika, 10(3): 629–682. Brownmiller S. (1976) Against our Will: Man, Woman and Rape, New York: Fawcett Book. Der Prozess gegen die Hauptverbrecher von dem Internationalen Militärgerichtshof 14.11.1945–01.10.1946 (1984) München-Zürich. Bd. 7. Dörr M. (1998) "Wer die Zeit nicht miterlebt hat…". Frauenerfahrungen im Zweiten Weltkrieg und in den Jahren danach, Frankfurt/Main: Campus-Verl. Dowling S. (2008) Seksual‘noe nasilie v gody Vtoroj mirovoj vojny ("Der Spiegel") [Sexual Abuse During World War 2 ("Der Spiegel")]. Available at: https://clck.ru/9Ws7z (accessed 02.06.2012). Eine Frau in Berlin: Tagebuchaufzeichnungen (1959) Frankfurt: Kossodo. Ericsson K, Simonson E (eds.) (2005) Children of World War II: The Hidden Enemy Legacy, New York: Berg Publishers. Eschebach I., Mühlhäuser R. (eds.) (2008) Handlungsräume. Sexuelle Gewalt durch Wehrmacht und SS in den besetzten Gebieten der Sowjetunion 1941–1945, Berlin: Metropol Verlag. Gebhardt M. (2015) Als die Soldaten kamen. Die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs, München: Deutsche Verlags-Anstalt. Gel’fand V.N. (2004) Dnevniki 1941–1946. [Diaries 1941–1946] Available at: https://clck.ru/9Ws7E (accessed 27.01.2015). Gestrich A. (ed.) (1996) Gewalt im Krieg. Ausübung, Erfahrung und Verweigerung von Gewalt in Kriegen des 20. Jahrhunderts, Münster: Lit. Gleichmann P., Kühne T. (eds.) (2004) Massenhaftes Töten. Kriege und Genozide im 20. Jahrhundert, Essen: Klartext-Verl. Grossmann A. (1995) Eine Frage des Schweigens? Die Vergewaltigung deutsche Frauen durch Besatzungssoldaten. Sozialwissenschaftliche Informationen, 24(2): 109–119. Heer H. (2004) Vom Verschwinden der Täter: Der Vernichtungskrieg fand statt, aber keiner war dabei, Berlin: Aufbau-Verl. Heineman E. (1996) The Hour of Women. Memories of Germany’s Crisis Years and West German Identity. American Historical Review, (1): 354–394. Henke K. – D. (1995) Die amerikanische Besetzung Deutschlands, München: Oldenbourg. Jahn P., Rürup R. (eds.) (1991) Erobern und Vernichten. Der Krieg gegen die Sowjetuni- on 1941–1945. Essays, Berlin: Argon. Jureit U., Schneider C. (2010) Gefühlte Opfer. Illusionen der Vergangenheitsbewältigung, Stuttgart: Klett-Cotta. Koenen G. (2012) Weil es Stalin gefiel? Zu Jörg Baberowskis Deutung des Stalinismus. Osteuropa, 62(4): 81–88. Kopelev L. (2004) Hranit’ vechno [To Be Preserved Forever], Moscow: Terra. Morina C. (2008) Vernichtungskrieg, Kalter Krieg und politisches Gedächtnis: Zum Umgang mit dem Krieg gegen die Sowjetunion im geteilten Deutschland. Geschichte und Gesellschaft, (2): 252–291. Mühlhäuser R. (2008) Konkurrierende Erzählungen zu sexueller Gewalt im Zweiten Weltkrieg, in DDR, Bundesrepublik und nach 1989. Phase 2, 28: 46–49. Münch I. v. (2009) "Frau, komm!" Die Massenvergewaltigungen deutscher Frauen und Mädchen 1944/45, Graz: Ares-Verl. Naimark N. (1995) The Russians in Germany. A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945–1949, Cambridge, MA: Harvard University Press. Nikonova O. (2005) Zhenshchiny, voina i "figury umolchaniya" [Women, War and Forms of Silence]. Neprikosnovennyi zapas [Untouchable Store], 40–41(2–3): 282–289. Nolte H. – H. (2009) Vergewaltigungen durch Deutsche im Russlandfeldzug. Zeitschrift für Weltgeschichte, (1): 113–133. Römer F. (2011) Gewaltsame Geschlechterordnung. Wehrmacht und "Flintenweiber" an der Ostfront 1941/42. S. Förster, B. Wegner, K. Latzel, F. Maubach, S. Satjukow (eds.) Soldatinnen. Gewalt und Geschlecht im Krieg vom Mittelalter bis heute, Paderborn: Schöningh: 331–352. Rosenthal G. (1995) Vom Krieg erzählen, von den Verbrechen schweigen. H. Heer (Hg.) Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941–1944. 2. Aufl, Hamburg: Hamburger Ed: 651–663. Satjukow S. (2008) Besatzer. "die Russen" in Deutschland 1945–1994, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Voronina T. (2011) Kak chitat pisma s fronta? Lichnaja korrespondenzija i pamjat o Vtoroj mirovoj vojne [How Do We Read Letters from the Front? Personal Correspondence and Memory of World War 2]. Neprikosnovennyi zapas [Untouchable Store], 77(3): 159–175. Wette W. (1987) Erobern, zerstören, auslösen. Die verdrängte Last von 1941. Der Russlandfeldzug war ein Raub- und Vernichtungskrieg von Anfang an. Die Zeit, (48): 49–51. Zipfel G. (1995) Wie führen Frauen Krieg? H. Heer (ed.) Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941–1944. 2. Aufl, Hamburg: Hamburger Ed: 460–474. Vera Dubina - PhD (Kandidat der Wissenschaft) in history, associate professor, History Dept., Moscow School of Social and Economic Sciences, Russian Federation. Vera.Dubina@gmail.com |
|||
 |
