



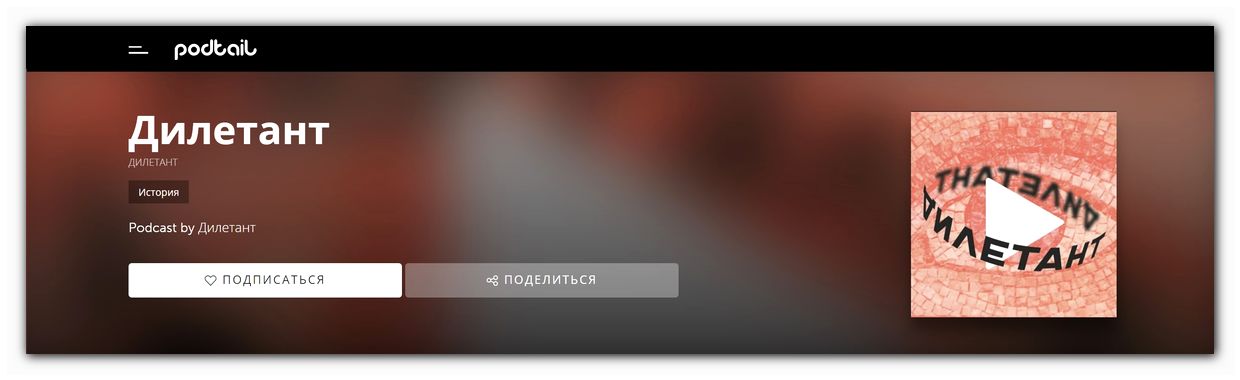 |
||
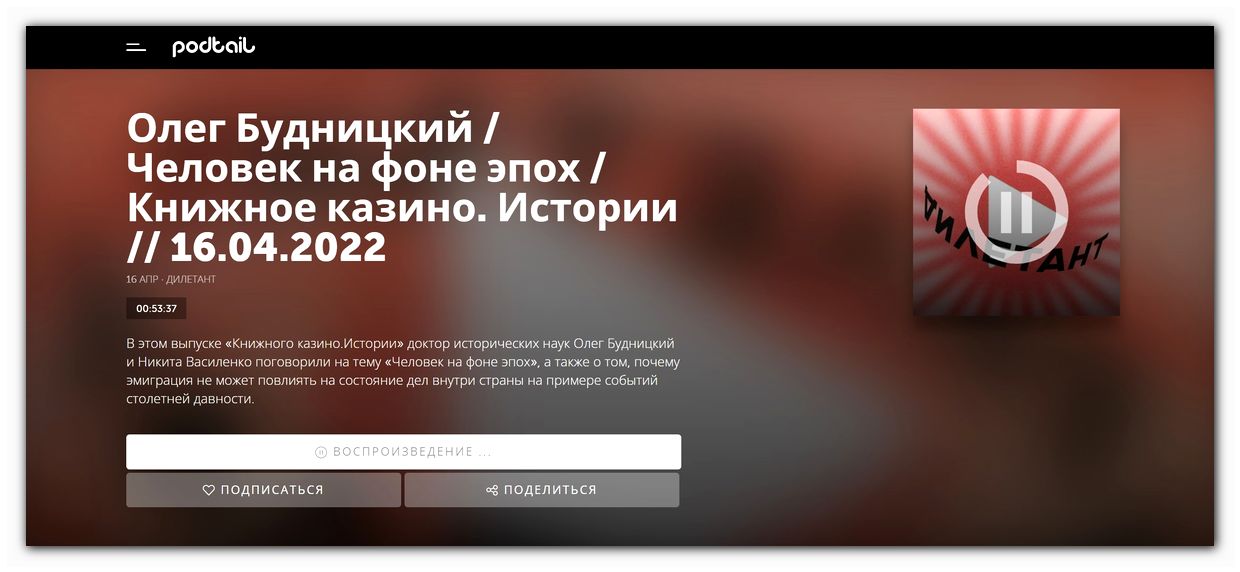 |
||
| |
||
| Олег Витальевич Будниицкий
— писатель, советский и российский историк, специализирующийся на
российской истории второй половины XIX—XX веков. Доктор
исторических наук, профессор, директор Международного центра истории и
социологии Второй мировой войны и её последствий НИУ ВШЭ, член
Европейской академии, главный редактор ежегодника «Архив
еврейской истории». В новом выпуске "Книжного казино" - Олег Будницкий, доктор исторических наук. Ведущий – Никита Василенко, а также Николай Александров, литературный обозреватель, с регулярной рубрикой «Книжечки». |
||
| |
||
| |
||
|
Н. ВАСИЛЕНКО: Суббота, 16 апреля, YouTube-канал «Дилетант», у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей нашей программы. И как всегда на своём месте «Книжное казино. Истории». Напомню, что нам важна ваша поддержка, поэтому подписывайтесь, распространяйте видео, делитесь с друзьями, ставьте лайки. И также я представлю своего режиссёра, который мне сегодня помогает, — это Александр Лукьянов. Спасибо ему. Кроме того, не забывайте, что у нас есть книги в нашем электронном магазине. Сегодня в том числе о книгах оттуда, из этого магазина, пойдёт речь. Многие уже раскуплены, но мы всегда обновляем наш ассортимент. В прошлый раз в этом эфире, в эфире нашей программы мы встречались с Людмилой Улицкой. Мы говорили с ней о том, как оставаться человеком на фоне страшных потрясений. Весь разговор то и дело мы сводили к каким-то историческим параллелям, каким-то примерам из истории. Я подумал, что в ближайшем выпуске, то есть сегодняшнем, мне важно позвать человека, который разбирается в истории, и я с радостью приветствую в нашей виртуальной студии автора книг «Люди на войне», «Другая Россия», доктора исторических наук Олега Будницкого. Олег Витальевич, здравствуйте! О. БУДНИЦКИЙ: Здравствуйте. Н. ВАСИЛЕНКО: Мы сейчас начнём нашу беседу. Я ещё сразу сделаю небольшой анонс. Есть и третья книга Олега Витальевича — новинка, о которой мы тоже обязательно поговорим, но пока я её придержу в маленьком секрете от вас. Мне хотелось начать с теоретических вопросов. Олег Витальевич, насколько справедливо утверждение, что история движется по спирали? О. БУДНИЦКИЙ: Не слишком справедливо, с моей точки зрения. Можно, конечно, на очень таком длительном историческом отрезке найти какие-то подобия, параллели и повторения кажущиеся. На самом деле история уникальна, в этом её отличие от, скажем, физики или химии. И вообще наук гуманитарных от наук точных и естественных. Там действуют некоторые закономерности, которые действуют всегда и всюду. В истории всё определяют действия людей в конкретных обстоятельствах, конкретных людей. И всё может пойти совсем не так, как, казалось, должно было бы пойти. Может быть, в худшую сторону, может быть, в лучшую сторону, но не так. И все аналогии в истории хромают. В чём-то есть сходство тех или иных, скажем, режимов или исторических личностей, но в целом всё, конечно, индивидуально и уникально. И в этом есть и интерес, и прелесть, и ужас нашей науки, если угодно. Н. ВАСИЛЕНКО: Второй тогда теоретический вопрос. Персонифицированный подход к изучению истории, особенно нашей истории, где мы всегда как, в том числе, как ученики, как школьники сталкиваемся с тем, что изучаем всё произошедшее через призму изучения правления того или иного лидера страны на тот момент. Вот в этом персонифицированном подходе больше пользы или вреда, на ваш взгляд? О. БУДНИЦКИЙ: Нет ни того, ни другого. Это вообще не те категории для историка — больше пользы или вреда. В чём задача историка, собственно говоря? Понять, что происходило, и, во-вторых, почему это происходило. Второе гораздо сложнее, чем первое. Естественно, что в истории мы изучаем и общество, и, скажем так, экономику, мы изучаем какие-то социальные слои, психологию, если угодно, и так далее. И изучаем действия конкретных личностей. Почему в истории России очень много внимания уделяется персоналиям? Потому что, увы, у нас в истории очень силён этот персоналистский момент. Я напомню, что, собственно говоря, страна была самодержавной до 17 октября 1905 года. Потом она как бы перестала быть самодержавной, стала как бы конституционной монархией. При том, что власть императора была, конечно, колоссальна и очень слабо сдерживалась какими-то институциями вроде Государственной думы. Ну, и в советский период, в общем, произошло воспроизводство до некоторой степени этой модели. И власть генсека была (во всяком случае, в сталинский период, да и в ленинский) практически абсолютной и существенно превышала, между прочим, уровень власти абсолютных монархов российских. Во всяком случае, эпохи послепетровской. Так что изучение персоналии неизбежно, и оно многое объясняет, на самом деле. Н. ВАСИЛЕНКО: И вот я как раз теперь хочу перейти к одной из тех книг, которые я уже упоминал, — это «Люди на войне», вышедшая в издательстве «Новое литературное обозрение». И уже во вступлении есть вопрос: почему люди кажутся безликими статистами в битве держав и вождей? И один из тех источников, который убирает это обезличивание, — это, конечно, дневники. Дневники свидетелей, дневники участников событий. И тут у меня сразу два вопроса: в чём ценность дневника и можно ли говорить, что дневник, например, маршала Победы и рядового бойца будут равновесны в историческом контексте? О. БУДНИЦКИЙ: Да, будут равновесны. В каком плане: дневник маршала… На самом деле, по-моему, нам известен только один такой дневник — это дневник будущего маршала Ерёменко. И то, который он вёл, в общем, достаточно нерегулярно — понятно, он командовал фронтами, был ранен и прочее. Это позволяет нам понять разные уровни событий, разные уровни ощущений и действий людей на войне. Очень долго у нас преобладала — я имею в виду, в Советском Союзе, в постсоветский период, и преобладает, — точка зрения богов и героев. Что сделал тот, что подумал этот. Я напомню, что серии военных мемуаров были очень популярны в советское время. В основном это были генеральские мемуары, написанные, как правило, не самими генералами. Знаменитые воспоминания маршала Жукова в значительной степени, конечно, изложены литературными редакторами, и где там голос самого Жукова, а где сглаженный текст — это большой вопрос. Не говоря уже о многочисленных цензурных вырезках, вставках и так далее. Что касается дневников. В чём ценность? Это наиболее аутентичный источник по истории не только войны, вообще по истории. Ведь люди писали здесь и сейчас. Человек, который делал записи, не знал нередко, доживёт ли до следующего дня или даже до сегодняшнего вечера или дня. Есть такие дневники, попадаются. Скажем, дневник Георгия Славгородского. Я о нём пишу в этой книге, очень необычный человек. Он поставил дату, когда сделать следующую запись, и до этой даты не дожил. Это был январь 1945 г., уже в Польше. Он погиб в конце января 1945 г., посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. И он вёл дневник. Такой новый советский интеллигент из глубинки, из Ростовской области, получивший педагогическое образование, учитель, преподаватель русского языка и литературы. При этом он писал совершенно чудовищно по-русски, что немножко говорит об уровне этого образования. Он мечтал быть писателем и, возможно, новым Львом Толстым. Он напишет новую «Войну и мир» — он в своём дневнике замечает. Но лучше всего ему удавалось не писать, а воевать. И он даже так и пишет: опять увлёкся войной. И он прошёл путь от сержанта до майора, командира батальона. Это всё-таки не такое частое явление. Был совершенно прекрасным воякой, хотя мечтал совсем о другом. Мечтал о любви, о мирной жизни, о том, чтобы выпивать с товарищами и писать книжки. Это всё отражено в его дневнике, это замечательный совершенно текст. И он говорит нам и о людях на войне, и о самой этой войне: какой она была, как люди её воспринимали. Славгородский начинал воевать в 1941 г., и у него есть замечательный записи о первых тяжелейших месяцах войны, о Сталинградской битве, в которой он поучаствовал. Увы, жизнь его закончилась в январе 1945 г. Н. ВАСИЛЕНКО: Олег Витальевич, вы привели пример Славгородского, его дневника, а есть ли дневники, которые помогли историкам переосмыслить какие-то события Великой Отечественной и Второй мировой войны, то есть необязательно наших соотечественников, а кого-то, может быть, из-за границы? О. БУДНИЦКИЙ: Вы знаете, я хотел бы сосредоточиться на нашей истории. Дневников много, на самом деле, которые велись за границей, скажем, в Германии. У нас ведение дневников не приветствовалось, мягко говоря, и вообще любых записей. В Германии, напротив, пожалуйста, это даже поощрялось, и сохранилась довольно обширная литература, которая показывает формирование психологии этих вот покорителей мира и так далее. У нас, хотя формального приказа о запрете ведения дневников не было, это, как правило, не разрешалось в рамках общего соблюдения секретности. В некоторых случаях, конечно, на это не обращали внимания. Дневники очень разные. Владимира Гельфанда дневник, который я издал, — это огромный такой том, 750 страниц с комментариями. И очерк о Гельфанде в этой книжке, «Люди на войне». Он вёл дневник с довоенных времён ещё, со школы, выпускного класса, и до 1946 г., до того времени, когда он был офицером оккупационной армии советской в Германии. И это потрясающе интересный дневник, поскольку это очень такой наивный парень. Когда начинается война, что он записывает: ну, да, теперь, видимо, каникулы придётся провести по-другому. Вот первая мысль, которая ему приходит в голову. Для такого человека, который прошёл эту войну, это дневник очень наивного парня такого, откровенного, тоже мечтающего стать литератором. Очень многие из тех, кто вели дневники, мечтали стать литераторами впоследствии, вели какие-то записи в этом плане. Он записывает такие вещи, которые, наверное, взрослый человек или более, скажем так, умный человек не стал бы даже на бумаге фиксировать, даже для себя хотя бы. Ведущий дневник где-то понимает, что он пишет не только для себя. Это чрезвычайно интересно: быт и нравы в армии и не в армии, отношение людей к происходящему. Он до мозга костей советский человек, такой комсомолец, потом коммунист молодой. При этом он с некоторым ужасом записывает… Дело происходит, опять же, на Дону, там, где когда-то гремела Гражданская война, где были очень сложные отношения к советской власти, потом раскулачивание и всё такое прочее. И вот, провоевав там какое-то время, несколько недель, он говорит: первый раз услышал слово «наши». То есть Красная армия, которая пришла освобождать. Там «русские» и «немцы», «наши» там не называют. Вот такая запись достаточно любопытная. И он записывает, например, о колоссальном уровне антисемитизма, который был в советском обществе и в Красной армии, в том числе во время войны. И это парадокс: армия, которая победила фашизм, освободила Освенцим и так далее. Он на своей шкуре испытал эти антисемитские проявления. И, конечно, совершенно уникален его дневник германского периода. Это настолько интересно. Он сначала ведь вышел по-немецки — та часть дневника, которая посвящена Германии, — и разошёлся в Германии каким-то огромным тиражом, больше 80 тыс. экземпляров. После этого он уже вышел в полном виде на русском языке, подготовленный моими сотрудниками и вашим покорным слугой. Это такой срез истории войны, который может быть отражён только людьми, которые в этой гуще, которые не знают ещё, как положено писать о войне, нет официального канона. И хотя временами они срываются на официальный язык какой-то, как правило, это записи того, что человек ощущает. Н. ВАСИЛЕНКО: А вот всякие проявления: «Да здравствует наш вождь, да здравствует товарищ Сталин» — это какой-то страх прорывается? О. БУДНИЦКИЙ: По-разному. Вот, например, тот же Гельфанд, как я сказал, до мозга костей советский человек. Он видит всякие ужасы, безобразия и прочее, и он никак это не увязывает с личностью Сталина. И после войны там какие-то выборы очередные в Верховный Совет и так далее, он пишет: «Сталин — солнце моё большое». Вот так он пишет. Всё хорошее в жизни связано с вождём, а всё плохое — как-то это вопреки вождю. Ну, это такая стандартная более-менее психология. В некоторых дневниках ни родина, ни партия, ни Сталин вообще не упоминаются. Вообще. Просто это за пределами интересов людей, они живут сегодняшним днём и записывают. Например, очень интересный дневник Павла Элькинсона, сержанта. Тетрадка, по существу, полторы тетрадочки. Он почему начал писать в дневник? Он воевал с 1942 г., был на фронте. Поскольку он оказался за границей, его часть пересекла Прут. Он записывает: никогда в жизни, наверное, не буду больше за границей, надо записать свои впечатления. Вот такой интересный военный «туризм». И он побывал в Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. И описывает свои впечатления от встреч с людьми, от быта и культуры, от женщин. Ну, как же, тема женщин там проходит, как в любом солдатском дневнике, красной нитью. Николай Никулин в своих замечательных воспоминаниях, многим известных, может быть, написанным 30 лет спустя после Победы в стол, поскольку понятно, что такого рода тексты не могли быть изданы при советской власти, пишет, что основными темами солдатских разговоров (значит, и интересов) были смерть, жратва и секс. И вот это мы видим, красной нитью проходящее в дневниках. То есть людей интересует самое важное, на самом деле, что было в их военной жизни. Н. ВАСИЛЕНКО: А фантазии о будущем, мечты? О. БУДНИЦКИЙ: Ну, бывают. Я говорил о мечтах Георгия Славгородского или там ещё людей. Люди очень часто живут сегодняшним днём, и некоторые явно ведут дневники не только для того, чтобы записать свои впечатления, некоторые от одиночества, как Гельфанд. Он пишет: «Дневник, приятель дорогой». Он совершенно одинок, как-то плохо сходится с людьми. Тут проблема не только этих людей, но и его лично, такого эгоцентрика. Загадывать наперёд очень сложно, особенно если это дневники людей, реально участвующих в сражениях, людей, которые на передовой или совсем близко к передовой. Скажем, Георгий Славгородский — это пехотинец, Владимир Гельфанд — это миномётчик, хуже этого только пехота, это самый такой, что называется, передок. Павел Элькинсон — он артиллерийский разведчик, то есть тот, кто корректирует огонь и находится на опасной точке. Тем не менее умудряются записывать. У Элькинсона в дневнике есть одна такая совершенно потрясающая запись. Это Венгрия, они форсируют Дунай, там очень тяжёлые бои — а в Венгрии были очень тяжёлые бои в 1945 г., очень тяжело это давалось, 120 дней была осада Будапешта и тяжёлый очень штурм. И в один день погибают четверо его товарищей. И он записывает: «Когда же моя очередь?». Он не очень надеется дожить до конца войны, а это уже 1945 г., январь-февраль. Так что мечты там какие-то бывают как раз о будущем, но я бы не сказал, что это какая-то основная тема, этого почти нет. Н. ВАСИЛЕНКО: Хочется поговорить о других источниках. Это официальные документы. Чаще всего в контексте Великой Отечественной войны мы вспоминаем пакт Молотова-Риббентропа, и вот на его примере хочется разобрать вопрос верификации. Многие даже, несмотря на то, что пакт и секретные протоколы рассекретили, до сих пор отказываются верить в их правдивость. Да, есть отдельные категории людей, которые уже приняли эти документы, говорят, что так и надо было, что это позволило сохранить время, ресурсы и прочее, прочее, прочее. Но есть люди, которые говорят, что это в своё время Хрущёв переписал, Горбачёв, не знаю, Ельцин… И вот не готовы поверить, что такие документы были. Вопросы верификации — как донести до обывателя, что этот документ существует и он настоящий? О. БУДНИЦКИЙ: Никак. Это вопрос веры. Конечно, у нас есть оригинал. Вы, наверное, не помните эту историю, когда в 1989 г. юбилей был пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к нему. В самом пакте о ненападении между СССР и Германией нет ничего криминального. «Криминальная» часть — это секретные протоколы к этому пакту. Это было, с моей точки зрения, величайшей ошибкой, допущенной Сталиным, ибо это было, конечно, лично его решение — эти документы подписать. Но я в одном из очерков, который открывает книгу, анализирую, что принесло это Германии и что принесло Советскому Союзу. Конечно, Германия в колоссальной степени выиграла от этого пакта, и если посмотреть, что приобрёл Советский Союз — чисто прагматически, я моральную сторону отбрасываю, — Западную Украину, Западную Белоруссию, Прибалтику, часть Финляндии и какие-то кусочки: Северная Буковина, Бессарабия. И что получила Германия: Францию, Бельгию, Голландию и далее по списку, с их мощной промышленностью, ресурсами и так далее. И, конечно, Германия в колоссальной степени выиграла от этого договора, обеспечив себе отсутствие восточного фронта. Конечно, за это пришлось расплатиться в 1941 г. По поводу подлинности или неподлинности. Это всегда отрицалось в советское время, что не было никаких договорённостей и всё это враньё. Понятно, что договорённость с нацистской Германией — это, я считаю, был самый страшный удар по репутации вообще коммунистического режима и лично товарища Сталина. И это всегда отрицалось. Дело в том, что они были опубликованы, эти тексты, по фотокопиям, которые обнаружили американцы среди других материалов германского министерства иностранных дел и всего такого прочего. Они были опубликованы, когда началась холодная война. На Нюрнбергском процессе это не обсуждалось, просто сразу отметалось и всё. Когда началась холодная война, то они и опубликовали эти протоколы. В СССР издали огромным тиражом историческую справку под названием «Фальсификаторы истории», в которой, практически не упоминая даже этих протоколов, чтобы какое-то знание не проникло об этом, что называется, в массы… Н. ВАСИЛЕНКО: Просто создать информационный шум, такую завесу. О. БУДНИЦКИЙ: Да-да-да. В общем, как-то это дело отрицал. И вот в 1989 г. на Съезде народных депутатов выдвигается предложение денонсировать эти самые секретные протоколы пакта Молотова-Риббентропа, вообще всю эту договорённость. И народные депутаты голосуют против сначала, потому что нет же их. Что мы будем голосовать, денонсировать то, чего нет. Это был скандал. И тут появляется, по-моему, Александр Яковлев тогда, который был ответственен за историческую часть и говорит: ну, вы знаете, вот тут товарищи поискали и нашли. И предъявляет эти самые документы, которые вполне себе всё это время — и это одна из самых удивительных историй — этот самый компрометирующий, с моей точки зрения, советскую власть документ не был уничтожен и хранился. Где? Хранился в особой секретной папке генерального секретаря. Н. ВАСИЛЕНКО: То есть по наследству передавалось от секретаря до секретаря. О. БУДНИЦКИЙ: Передавалось, совершенно верно. Значит, и когда: смотрите, вот они, на самом деле существуют, их денонсировали. Уже после падения коммунистического режима в журнале «Вопросы истории» факсимильно были опубликованы эти секретные протоколы, и они неоднократно перепечатывались. Есть прямо факсимиле, неверующие могут взять и посмотреть. Конечно, можно сочинить, что это тоже подделали, но это, так сказать, за пределами исторического сознания, это вопрос веры. Н. ВАСИЛЕНКО: Что ж, тогда оставим этот вопрос в категории веры, и будет вам да по вере вашей. О. БУДНИЦКИЙ: Я тут хочу сказать, кстати, об архивных документах. Нужно понимать, есть такое наивное представление, что откроются архивы… Архивы в очень существенной степени открыты. На самом деле, у нас сейчас столько документов, что если историки возьмутся сейчас их изучать, то не хватит их жизней и даже жизней детей и внуков. Это колоссальные массивы, это вопрос отбора того, что считаешь более важным, менее важным и так далее. Но очень многое остаётся закрытым, это совершенно верно. Очень многие вещи остаются закрытыми. То, что хранится в архиве ФСБ, некоторые документы Главного политического управления Красной армии и так далее. Тем не менее очень многое нам известно. Надо понимать, что архивные документы — это не есть истина в последней инстанции, ведь люди писали документы с определённой целью. И люди как бы использовали эти тексты для того, чтобы что-то объяснить начальству, в чём-то его убедить или наоборот. Архивный документ подлежит исторической критике. Надо понимать, для чего он написан. Сам по себе текст — он, так сказать, нем, его нужно ввести в контекст и интерпретировать. И в этом уже работа историка. Вот это надо понимать, и когда я пишу и придаю особое значение дневникам, если мы будем писать историю только по официальным документам, мы никакой реальной истории не напишем и не поймём. Когда мы сочетаем документы официальные — самого разного рода, это могут быть оперативные документы, политдонесения о настроениях, материалы военных трибуналов, донесения НКВД, НКГБ тогдашнего, впоследствии СМЕРШа о настроениях… Когда всё это вместе, тогда мы видим мозаичную, полифоническую, очень сложную картину. И здесь личные свидетельства чрезвычайно важны. Без этого мы никогда не поймём, что на самом деле происходило. Канон, который тогда создавался и который пытаются многие сейчас как-то поддержать и возродить, на самом деле имеет очень мало общего с реальной истории войны. Н. ВАСИЛЕНКО: Сейчас я хотел бы переместиться в довоенное время и в «Другую Россию». Так называется и ваша книга, которая задела нерв времени и стала очень актуальной. У меня вопрос следующий. Вот, действительно, была другая Россия, альтернатива большевистской России, которая состояла из эмигрантов. Они раскинулись по всему миру. Конечно, в Европе было, наверное, больше всего представителей другой России, и они вывезли колоссальные ресурсы. Это, может быть, даже не только какие-то человеческие, это и золотые запасы (об этом мы тоже поговорим). Но вопрос один: почему так и не удалось сделать какой-то мощный центр, штаб сопротивления большевистской власти там, снаружи? О. БУДНИЦКИЙ: Понятно. Но я, кстати, всё-таки хочу показать, о каких книжках идёт речь. Это вот «Люди на войне», о которой мы говорили, вышедшая в издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Что такое Россия». А это вот та книжка, замечательно изданная, о которой мы сейчас говорим, — «Другая Россия». Смотрите, во-первых, надо понимать, что никто никогда ещё извне, из эмиграции ничего такого не сделал, что привело бы к изменению режима внутри страны. Это могут сделать только те люди, которые в стране живут, находятся внутри. Конечно, можно очень сильно влиять. Один человек, я имею в виду Александра Ивановича Герцена, колоссально повлиял на развитие, на мысль русского общества, и вообще основал вольную русскую печать. Или вот эти издания начала 20-го века социал-демократические, известная всем «Искра» или «Революционная Россия» эсеровская тоже хоть и оказали влияние, но в конечном счёте всё решают люди в самой стране. Никакие эмигранты никогда ещё нигде ничего не смогли изменить. Это первое. Второе — не было никакого единого центра эмиграции. Эмиграция вывезла за границу все те противоречия, все те споры, которые были у людей в России. Эмиграция была очень разная. Там были и монархисты, там были социалисты другого, чем большевики, толка, и там была огромная масса людей, которые просто бежали от большевистского режима, от террора, от беззакония, от голода и так далее. Есть такое представление, такой миф о том, что это была сплошь элита. Это не так. Подавляющее большинство эмигрантов — это простые люди. Это солдаты, казаки, участники антибольшевистских разных вооруженных формирований: и белых, и не белых, зелёных, анархистов, кого хотите. Среди эмигрантов были, допустим, генералы Деникин и Врангель, Краснов, казачий атаман, генерал императорской армии, и, например, батька Махно. Так что там были очень разные люди, там были и либералы, кадеты, Павел Милюков, допустим, Василий Маклаков. Социалисты, революционеры, кто хотите. Никакого единства там не было, никакого единого штаба быть не могло. Были попытки извне организовать какую-то борьбу в России, но они заканчивались, как правило, крахом, тем более что эмиграция была пронизана агентами ГПУ, потом НКВД. Наиболее известная история — это операция «Трест», когда создали мифическую такую организацию специальную, выманили в Россию, в СССР Бориса Савинкова, его там арестовали. Или такой жутковатый пример: агентом НКВД был генерал Скоблин, последний командир корниловского полка, который участвовал в организации похищения генерала Миллера, главы Русского общевоинского союза, вывезенного на советском пароходе «Мария Ульянова» в СССР. В 1937 г. произошло. Сидел два года на Лубянке под именем Иванова. Не до него было, своих расстреливали. Потом до него дошли руки в 1939 г., и его расстреляли. Или муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон. Бывший доброволец, участник Добровольческой армии, который уверовал в правоту большевистских идей, стал агентом НКВД и вынужден был бежать, уехать в советскую Россию, где, увы, в конце концов был расстрелян в 1941 г. Что стало с Мариной Цветаевой — нам известно. Она тоже была вынуждена реэмигрировать в Советский Союз, поскольку подвергалась остракизму в эмиграции. Ну, это так, к слову, почему этого не произошло. С другой стороны, я хочу не то чтобы себя опровергнуть, но немножко скорректировать. Я сказал, что есть миф, что элита составляла большинство эмигрантов. Нет, отнюдь нет, но никогда среди эмигрантов не был столь велик слой этой самой элиты, самой разной. Мы больше всего знаем об элите культурной. Это литераторы, художники, публицисты, поэты; я думаю, не нужно особо напоминать, но тем не менее. Первый нобелевский лауреат по литературе Иван Бунин — это эмигрант. И до сих пор в Госархиве Российской Федерации папки, где написано: переписка белого эмигранта Бунина с тем-то. Ведь эти архивные дела описывались в те времена, когда архивами ведало НКВД, потом МВД и так далее. Туда выехали юристы в огромном количестве, потому что теперь юриспруденция настоящая была не нужна на родине. Туда выехали предприниматели, некоторые сумели кое-какие капиталы вывезти, каким-то бизнесом заниматься, об этом у меня тоже есть книжки. Иногда успешно получалось. Выехали дипломаты. В общем, масса людей профессиональных, военные профессиональные и так далее. И там возникла такая… другая Россия, состоявшая из людей прошлого до некоторой степени, и из людей тех, которые могли бы построить новую Россию. Об этом тоже я говорю в книге. Книга о поисках путей преодоления большевизма и о различных проектах, какой эта новая Россия должна быть. Я пишу диалоги Василия Маклакова и Бориса Бахметева, очерком о которых открывается эта книга, наряду с общим обзором истории эмиграции. Какой они видели эту новую Россию и на каких основах она должна была строиться. Это чрезвычайно интересный проект, с моей точки зрения. По-моему, во времена Бориса Ельцина был даже конкурс объявлен на национальную идею для России. Вот можно было бы почитать переписку Бориса Бахметева и Василия Маклакова, там эта идея очень чётко сформулирована, но нам до реализации этой идеи ещё очень и очень далеко. Н. ВАСИЛЕНКО: В России надо жить долго, как говорили классики. О. БУДНИЦКИЙ: Это правда. Н. ВАСИЛЕНКО: Я хочу для наших зрителей порекомендовать. Правда, ещё пока не видел в продаже, но видел публикацию в журнале «Знамя». Роман Саши Филипенко «Кремулятор» — история белого эмигранта, белого офицера Павла Нестеренко, который потом вернулся в советскую Россию и стал директором первого московского крематория. Это вот если образно хотите воспроизвести, увидеть трудности эмиграции той эпохи, этот роман очень сильно вам рекомендую. И от наших зрителей тоже невозможно скрыть, что у вас, Олег Витальевич, вышла новая книга «Золото Колчака». Уже в чате много было вопросов, и я не буду вас просить раскрывать все тайны, все выводы исторического расследования, которые вы провели, а попрошу просто отделить мифы и факты. Золото Колчака: что это, где правда, а где мифы. Какие мифы, если они есть, самые популярные? О. БУДНИЦКИЙ: Вот эта книга, я сам её получил буквально три дня назад. Тоже в серии «Нового литературного обозрения» «Что такое Россия» вышла. Что такое золото Колчака? Это большая часть золотого запаса Российской империи. Если быть более конкретным и говорить о сумме, то это 645 млн золотых рублей, чтобы как-то привести к какому-то знаменателю. Н. ВАСИЛЕНКО: А можно конвертировать по нынешним временам, сравнить? О. БУДНИЦКИЙ: Сначала давайте я расскажу, что это было по тем временам. Для ясности. Н. ВАСИЛЕНКО: Давайте. О. БУДНИЦКИЙ: Что такое золотой рубль? Это 0,774 г — и даже далее в периоде — чистого золота. Вот что такое золотой рубль. Золотые монеты — в книжке, кстати, воспроизведены их фотографии, — если российские, то это империал — 15-рублёвая монета, полуимпериал — 7,5 рублей, наиболее популярная — червонец золотой. В золотой запас Российской империи входили в основном слитки золотые и монеты. Монеты были 13 государств, больше всего было рейхсмарок немецких, между прочим. Были и британские соверены, и много чего ещё. Два золотых рубля тогда — мы берём уровень примерно 1917 г., потому что потом, конечно, рубль не котировался, был условный обменный курс — это один американский доллар. Тоже золотой, в те времена — золотого стандарта. Десять рублей — это один фунт стерлингов. Тогда это была основная мировая валюта, и в основном мировая торговля происходила в фунтах или долларах. Это 490 т, если брать вес этого золота. Перевести на нынешние деньги (так как золотых рублей не существует, мы приравниваем, по традиции, к долларам) — это не так просто. Сколько уже происходило разного рода девальваций и так далее. Но речь идёт как минимум о нескольких десятках миллиардов долларов, а может быть, и больше. Н. ВАСИЛЕНКО: Оставим этот вопрос экономистам. О. БУДНИЦКИЙ: Я об этом пишу, у меня есть подробные таблицы — изменения курсов валют различных и изменения цены золота на Лондонской бирже, так что желающие могут посмотреть, и я привожу разные данные, но надо понимать, что покупательная способность очень сильно меняется, и номенклатура товара меняется, и так далее. Но это очень большие деньги, ещё раз хочу сказать. Так вот, в чём, собственно говоря, загадка? Из этой гигантской суммы — 645 млн золотых рублей — в конечном счёте в руки большевиков попало золото на 409 млн рублей золотом. Нетрудно понять, что разница составила весьма внушительную сумму, 236 млн золотых рублей. Что с ними произошло? Куда оно делось, это золото? Н. ВАСИЛЕНКО: У нас очень много вопросов в чате: как его вывезли? О. БУДНИЦКИЙ: Это я легко могу сказать, как его вывезли. Вывезли его сначала на эшелонах, на поездах из Омска, где оно хранилось, во Владивосток. Н. ВАСИЛЕНКО: То есть из ставки Колчака, получается. О. БУДНИЦКИЙ: Да. Есть такой фильм, не имеющий никакого отношения к реалиям, о некоем золотом эшелоне. Их было пять, этих золотых эшелонов, на самом деле, на которых везли золото во Владивосток, а оттуда его на кораблях, на судах отправляли дальше. В Гонконг, в хранилище «Гонконгского и Шанхайского банка» (это был британский банк на самом деле), в хранилища французских банков, ибо первое золото купили у правительства Колчака французские банкиры. Отправляли в Японию, в «Йокогама Спеши Банк» и «Чосен Банк». Кредитовали правительство Колчака, под залог золото вывозили в хранилища британских и американских банков. Золото на 43,5 млн рублей захватил атаман Семёнов в Чите — так что один эшелон не дошёл до пункта назначения. Короче говоря, за границу отправилось золото примерно на 190 млн. Кем они были израсходованы и как? Это совершенно детективная, увлекательная история. Как его продавали? Ведь попробуй продай золото. Ведь это государственный золотой запас, и никакой частный банк не решится его купить без согласия своего правительства. Ведь правительство Колчака никем не признано. И почему он распоряжается этим золотым запасом? Потом какая-то власть установится в России и предъявит требования. Тоже очень сложная история. Первую партию продали с дисконтом большим. В общем, увлекательнейший сюжет. Одна из наиболее интересных частей — это то, что часть золота, не потраченного в годы Гражданской войны на вооружение, обмундирование и на самые разные вещи, вплоть до школьных учебников, осталась на руках у эмигрантских дипломатов. Часть потратили на помощь русской эмиграции, часть пытались сохранить для будущего правительства постбольшевистской России. Я проследил, как это золото расходовалось вплоть до конца 1950-х гг. Вот, собственно, об этом книжка, — как и что стало с этим золотом. Кое-что, действительно, похитили, но это очень незначительная часть. Н. ВАСИЛЕНКО: Олег Витальевич, буквально минутка осталась. Я не прошу, опять же, раскрыть все секреты, пусть читатель придёт и узнает это из книги, но в каком-то виде золото вернулось в Россию? О. БУДНИЦКИЙ: Нет. Н. ВАСИЛЕНКО: Всё. Мы поговорили о разных исторических явлениях, и, я думаю, этот эфир нам ещё предстоит пересмотреть и переосмыслить. И я прощаюсь с вами, Олег Витальевич, до новых встреч! О. БУДНИЦКИЙ: Да, спасибо, всего доброго. Н. ВАСИЛЕНКО: Я напоминаю, книги, о которых мы говорили, — это «Люди на войне», «Другая Россия» и «Золото Колчака». Всё это вышло в издательстве «Новое литературное обозрение». Ну, а мы продолжаем нашу трансляцию, и совсем скоро к нам подключится Николай Александров, и вас ждёт очередной обзор «Книжечек» в прямом эфире. И, опять же, у нас было небольшое домашнее задание, назовём это так. Тогда нам Людмила Евгеньевна Улицкая посеяла мысль, что большой роман себя изжил, и вот я попросил Николая своё мнение по этому вопросу представить, что он и обещал сделать. И вот, кажется, Николай Александров уже с нами. Николай, слышите ли вы меня? Н. АЛЕКСАНДРОВ: Никита, здравствуйте! Слышу прекрасно. Н. ВАСИЛЕНКО: Ура! И я вас слышу и вижу, и зрители в чате также передают свои приветы. Что ж, я уже напомнил о нашем разговоре про большой роман. И также самое важное — это обзор книг, который мы от вас ждём. Н. АЛЕКСАНДРОВ: Ну, действительно, наверное, если иметь в виду классический большой роман, канон романа, который формировался на протяжении 19-го в., затем, кстати говоря, прекрасно себя чувствовал в советскую эпоху; последние 30 лет мы могли видеть примеры такого рода романов, причём самых разных. Один из последних примеров — роман Виктора Ремизова «Вечная мерзлота», посвящённый строительству «дороги смерти» Салехард — Игарка, который касается трагических событий. Напомню, что эта дорога так и не была построена. Это был последний из утопических проектов Сталина: железная дорога, связывающая два северных, полярных города, которая унесла тысячи жизней и остатки которой можно видеть как со стороны Красноярска, так и со стороны Салехарда. Так вот, само это повествование, как ни странно (а может быть, и не странно), кажется несколько устаревшим просто потому, что роман требует цельности. Роман всегда нам изображает мир, в котором существуют какие-то законы. Можно было бы приводить много примеров. Ну, скажем, роман «Петербург» Андрея Белого, который появился в начале 20-го в. и который вроде бы писался не в военное время, тем не менее был наполнен предчувствием надвигающейся катастрофы, и поэтому Белый писал его совершенно иначе, нежели канонический российский роман. У него, кстати, были опыты в каноническом романе — «Серебряный голубь», например. Можно было бы приводить ещё множество самых разных примеров такого рода. Особую вселенную, разрушенную, обращённую в руины, создаёт Сорокин в романе «Доктор Гарин», который отсылает к «Метели». Несмотря на то, что по форме это типичная сказка о любви, тем не менее это мир, в котором мы находим осколки. Мир, который начинается, если вы помните, с изображения психиатрической больницы — которая, между прочим, называется «Алтайские кедры», — где мы находим бывших властителей мира. Они все узнаваемы. Ну, например, Ангела или, например, Владимир, единственная реплика которого «это не я». На протяжении всего романа он повторяет. Бывшие властители мира, значит, в таком странном виде изображены. Один из романов, который идёт как будто по следам Сорокина, пытаясь соединить вот эти клочки самых разных миров, между прочим, — это относительно недавно вышедший роман Александра Соболева, он вышел в «Издательстве Ивана Лимбаха», называется он «Грифоны охраняют лиру». Это Москва, которая избежала революционной катастрофы, 1950-е гг. Этот роман не то чтобы прошёл незамеченным — разумеется, критики на него обратили внимание. Я всем его рекомендую прочитать, хотя я о нём уже говорил, — особенно тем, кто ещё с этим романом не знаком. Удивительно, что этот странный альтернативный мир тоже завершается предчувствием войны. И, кстати говоря, в этом же «Издательстве Ивана Лимбаха» в скором времени выйдет новый роман Александра Соболева, и я думаю, что у нас будет время (надеюсь, по крайней мере) отдельно о нём поговорить. Он называется «Тень за правым плечом». Действие происходит в 1916 г. Я обращаю внимание на эту дату, она тоже, в общем, знаковая. А больше пока никаких подробностей об этом романе говорить не буду, не буду раскрывать сюжет и саму ситуацию этого романа, но, я думаю, у нас ещё будет время об этом поговорить. Действительно, это странное состояние руинированного мира, осколков, раздробленности приходит к такому странному смешению, странным совпадениям. Я не случайно об этом говорю, потому что в том же «Издательстве Ивана Лимбаха»… Я прошу прощения, у меня сегодня будет день петербургского «Издательства Ивана Лимбаха». Я извиняюсь перед всеми другими издателями, обычно я, как правило, совмещаю самые разные издательства в своём обзоре, но вот сегодня так получилось. Н. ВАСИЛЕНКО: Они это заслужили, признаем честно. Н. АЛЕКСАНДРОВ: Да, да. Только что вышел сборник замечательного петербургского поэта Виктора Кривулина, который называется «Ангел войны». Это стихи 1960—1970-х гг., сборник, который сегодня читается совершенно по-другому, и он пронизан этим ощущением войны и катастрофы. Виктор Кривулин родился в 1944 г. в военном госпитале. И вот это, если угодно, генетическое переживание, воспоминание о войне наполняет все его стихотворения, которые касаются самых разных вещей. Понятно, что для него, например, 1968 г. был необыкновенно важен — пепел, который разносится по Европе, и сама Чехия, которая в его лирическом ожидании как будто вот-вот обратится в пепел. Всё это сегодня читается совершенно иначе. И начал я об этом говорить, потому что буквально позавчера мне подарили двухтомник Виктора Кривулина же, который вышел в Израиле. Это сборник, который подготовила вдова, первая жена Виктора Кривулина Анна Кацман. Это две тетради Виктора Кривулина, рукописные, которые потерялись и спустя полвека были найдены. И, кстати говоря, надеюсь, что моё сообщение никоим образом не станет причиной спора об авторских правах, то есть ещё одного конфликта, этого только нам не хватало. Я надеюсь, что этого удастся избежать. Потому что, разумеется, некоторые пересечения в этих сборниках есть. Стихотворение, которым открывается книга «Издательства Ивана Лимбаха» «Ангел войны». И, кстати говоря, стихотворение в этой книжке так и называется — «Ангел войны». Выживет слабый. И ангел Златые Власы Выживет спящий под лампочкой жёлтой едва, Выживет смертный, ознобом души пробуждён. Я не успел сказать ещё об одной книге, может быть, буквально два слова я скажу, потому что об этой книге я тоже, наверное, буду говорить позже. Она готовится в «Издательстве Ивана Лимбаха». Автор — Джонатан Шнир, «Заговор Локкарта: любовь, предательство, убийство и контрреволюция в России времён Ленина». Эта книжка появится в скором времени. Она говорит о попытках свержения большевистской власти в 1918 г. Думаю, что она многих интересует. А последний разговор о ней нас ждёт также, надеюсь, в ближайшем будущем. Н. ВАСИЛЕНКО: Сегодня мы говорили о делах минувших, прошедших, но меня не покидало ощущение, что мы просто смотрели в окно. Николай Александров, «Книжечки». Спасибо большое. Н. АЛЕКСАНДРОВ: Никита, спасибо. Н. ВАСИЛЕНКО: А я прощаюсь со всеми нашими зрителями и напоминаю, что сегодня мы вещание ещё не прекращаем, и в 4 часа программа «Дифирамб» на канале «Живой Гвоздь». Ольга Журавлёва будет беседовать с Иосифом Райхельгаузом. Поэтому в 4 часа возвращайтесь к нам, мы не прощаемся. И, кроме того, не забывайте shop.diletant.media, последние выпуски журнала «Дилетант» и книжные интересные новинки. |
|
Der Mensch im historischen Kontext
„Book Casino. Geschichten“ vom 16. April 2022 Gast – Oleg Budnitsky, Doktor der Geschichtswissenschaften. Die Moderatoren sind
Nikita Vasilenko und Nikolai Alexandrov, ein literarischer Kolumnist in der regelmäßigen Kolumne "Bücher" |
||
| |
||
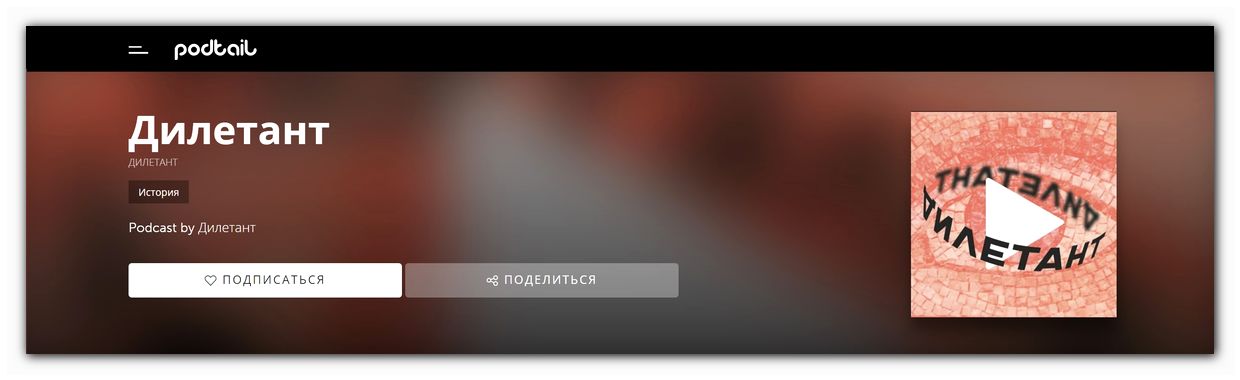 |
||
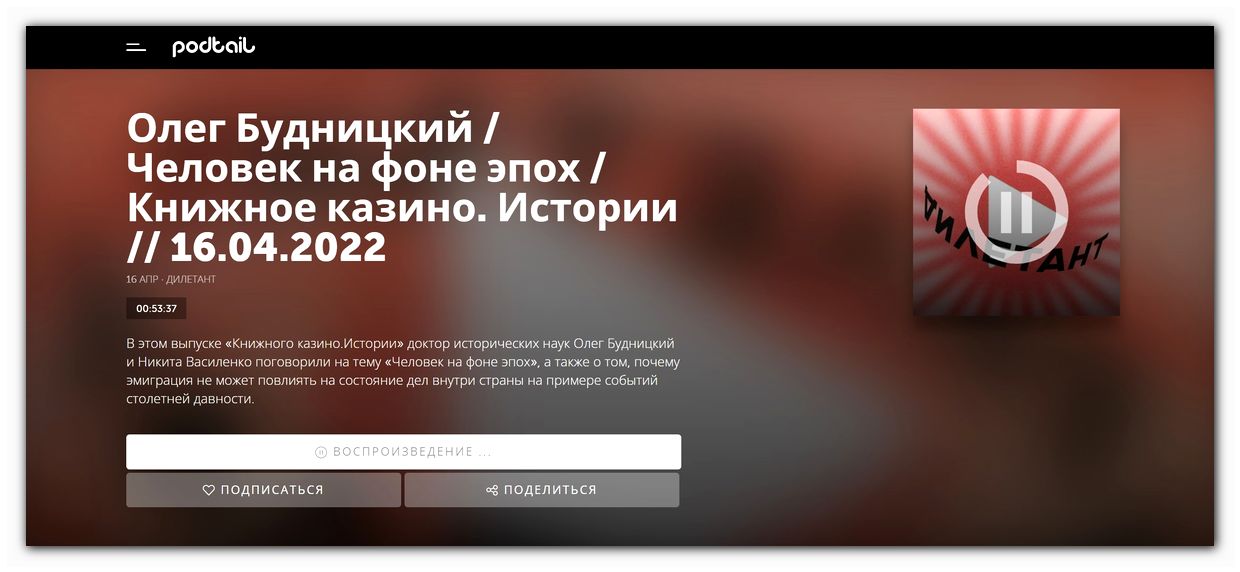 |
||
| |
||
|
Oleg Vitaljewitsch Budnizki ist Schriftsteller sowie sowjetischer und russischer Historiker. Er ist spezialisiert auf die russische Geschichte der zweiten Hälfte des 19. und des 20. Jahrhunderts. Budnizki ist Doktor der Geschichtswissenschaften, Professor und Direktor des Internationalen Zentrums für Geschichte und Soziologie des Zweiten Weltkriegs und seiner Folgen an der Nationalen Forschungsuniversität Higher School of Economics. Darüber hinaus ist er Mitglied der Europäischen Akademie sowie Chefredakteur des Jahrbuchs The Archive of Jewish History. In der neuen Ausgabe von „Book Casino“ ist Oleg Budnizki zu Gast. |
||
| |
||
| |
||
N. VASILENKO: Samstag, 16. April, YouTube-Kanal „Amateur“, am Mikrofon Nikita Vasilenko. Ich begrüße alle Zuschauer unserer Sendung. Und wie immer: das „Book Casino. Geschichten“. Ich erinnere daran, dass Ihre Unterstützung für uns sehr wichtig ist – abonnieren Sie, teilen Sie dieses Video, zeigen Sie es Freunden, geben Sie einen Like. Ich möchte außerdem meinen heutigen Gesprächspartner vorstellen, der mich bei der Sendung unterstützt: Alexander Lukjanow. Vielen Dank an ihn. Vergessen Sie nicht, dass Sie Bücher auch in unserem Online-Shop finden – darunter auch solche, über die wir heute sprechen werden. Viele Titel sind bereits vergriffen, aber wir aktualisieren unser Sortiment regelmäßig. Beim letzten Mal in dieser Sendung trafen wir auf Ljudmila Ulitzkaja. Wir sprachen mit ihr darüber, wie man angesichts tiefgreifender Erschütterungen menschlich bleiben kann. Immer wieder bezogen wir uns dabei auf historische Parallelen und Beispiele aus der Geschichte. Ich dachte mir, dass es sinnvoll wäre, in der heutigen Ausgabe jemanden einzuladen, der sich mit Geschichte wirklich auskennt. Ich freue mich daher sehr, den Autor der Bücher Menschen im Krieg, Das andere Russland und – ich verrate noch nicht alles – eines aktuellen Werkes begrüßen zu dürfen: den Historiker Prof. Dr. Oleg Budnizkij. Guten Tag, Oleg Vitaljewitsch! O. BUDNIZKIJ: Guten Tag. N. VASILENKO: Wir beginnen jetzt unser Gespräch, aber ich werde gleich noch eine kleine Ankündigung machen. Es gibt ein drittes Buch von Ihnen, eine Neuerscheinung, über die wir unbedingt sprechen werden – aber das halte ich noch ein wenig geheim. Ich möchte zunächst mit einer theoretischen Frage beginnen. Oleg Vitaljewitsch, wie zutreffend ist die Behauptung, dass sich Geschichte in Spiralen entwickelt? O. BUDNIZKIJ: Meiner Ansicht nach trifft das nicht zu. Natürlich lassen sich über lange historische Zeiträume hinweg gewisse Ähnlichkeiten, Parallelen und scheinbare Wiederholungen erkennen. Aber letztlich ist Geschichte etwas Einzigartiges – und das unterscheidet sie von Disziplinen wie Physik oder Chemie. Die Geisteswissenschaften überhaupt unterscheiden sich von den exakten und Naturwissenschaften. Dort gelten universelle Gesetze. In der Geschichte hingegen ist alles von menschlichem Handeln in bestimmten Kontexten abhängig – von ganz konkreten Menschen. Und oft verläuft es eben nicht so, wie man es erwartet. Vielleicht besser, vielleicht schlechter – aber eben anders. Historische Analogien greifen daher häufig zu kurz. Natürlich gibt es gewisse Ähnlichkeiten – etwa zwischen bestimmten Regimetypen oder Persönlichkeiten –, aber im Großen und Ganzen bleibt Geschichte individuell und einzigartig. Genau darin liegen sowohl der Reiz als auch die Herausforderung unseres Faches. N. VASILENKO: Die nächste Frage ist ebenfalls theoretischer Natur: Wie bewerten Sie den personalisierten Zugang zur Geschichte – insbesondere zur russischen Geschichte –, in der wir schon als Schüler und Studenten dazu angehalten werden, historische Entwicklungen stets durch das Prisma einzelner Herrscherfiguren zu betrachten. Überwiegt Ihrer Meinung nach dabei der Nutzen oder der Schaden? O. BUDNIZKIJ: Weder das eine noch das andere – das sind keine sinnvollen Kategorien für einen Historiker. Unsere Aufgabe ist es, zu verstehen, was geschehen ist – und, noch viel schwieriger: warum es geschehen ist. Natürlich untersuchen wir in der Geschichtswissenschaft gesellschaftliche Entwicklungen, wirtschaftliche Prozesse, soziale Gruppen, psychologische Aspekte und so weiter. Und ebenso untersuchen wir das Handeln einzelner Persönlichkeiten. Warum wird der Personalisierung in der russischen Geschichtsschreibung so viel Aufmerksamkeit geschenkt? Weil sie in unserer Geschichte stark verankert ist. Ich erinnere daran, dass Russland bis zum 17. Oktober 1905 eine absolute Monarchie war. Danach wurde es – zumindest formal – eine konstitutionelle Monarchie, auch wenn der Kaiser weiterhin über gewaltige Macht verfügte, die von Institutionen wie der Duma nur sehr begrenzt eingeschränkt wurde. In der Sowjetzeit wurde dieses Modell gewissermaßen fortgeführt. Die Macht des Generalsekretärs – insbesondere unter Stalin, aber auch schon unter Lenin – war faktisch absolut und überstieg die Vollmachten der russischen Monarchen nach Peter dem Großen bei weitem. Das Studium historischer Persönlichkeiten ist daher unvermeidlich – und erklärt tatsächlich vieles. N. VASILENKO: Ich möchte nun auf eines Ihrer Bücher eingehen, das ich bereits erwähnt habe: Menschen im Krieg, erschienen im Verlag „Neue Literarische Rezension“. Schon im Vorwort wird eine wichtige Frage aufgeworfen: Warum erscheinen Menschen im Kontext von Kriegen und politischen Umbrüchen oft wie gesichtslose Statisten? Eine Quelle, die dieser Entpersonalisierung entgegenwirkt, sind Tagebücher – Tagebücher von Zeitzeugen, von Beteiligten. Ich habe dazu zwei Fragen: Welchen historischen Wert haben Tagebücher? Und ist es gerechtfertigt, etwa das Tagebuch eines einfachen Soldaten und das eines Siegesmarschalls auf eine Ebene zu stellen? O. BUDNIZKIJ: Ja, das kann man. Auf unterschiedliche Weise natürlich. Das Tagebuch eines Marschalls – wir kennen meines Wissens nur eines, nämlich das von Andrej Jerjomenko – wurde eher unregelmäßig geführt, was verständlich ist: Er befehligte Fronten, wurde verwundet, und so weiter. Solche Texte ermöglichen es uns, unterschiedliche Ebenen von Ereignissen, Gefühlen und Handlungen im Krieg zu erfassen. In der Sowjetunion – und bis heute im postsowjetischen Raum – dominierte lange Zeit ein Heldennarrativ. Was hat der oder jener große Mann gedacht, getan? Militärmemoiren waren sehr beliebt – meist nicht von den Generälen selbst geschrieben. Die bekannten Memoiren von Marschall Shukow zum Beispiel wurden stark literarisch überarbeitet. Wo seine eigene Stimme zu hören ist und wo redaktionelle Glättung einsetzt – das ist schwer zu sagen. Ganz zu schweigen von Zensurauslassungen, eingefügten Passagen usw. Tagebücher hingegen sind eine der authentischsten Quellen – nicht nur zur Kriegsgeschichte, sondern zur Geschichte überhaupt. Sie entstehen im Hier und Jetzt. Oft wusste der Schreibende nicht, ob er den nächsten Tag oder Abend noch erleben würde. Ich nenne in meinem Buch das Beispiel von Georgij Slavgorodskij – ein sehr ungewöhnlicher Mann, über den ich in Menschen im Krieg schreibe. Er notierte das Datum für einen nächsten Eintrag – doch erlebte diesen Tag nicht mehr. Es war im Januar 1945, bereits in Polen. Er fiel Ende Januar 1945 und wurde postum zum Helden der Sowjetunion ernannt. Slavgorodskij war ein sowjetischer Intellektueller aus der Region Rostow, ausgebildeter Lehrer für Russisch und Literatur – aber sein Schreibstil ist sprachlich katastrophal, was einiges über das Niveau der damaligen Ausbildung sagt. Er träumte davon, Schriftsteller zu werden – ein neuer Tolstoi. Er wollte ein neues Krieg und Frieden schreiben, wie er in seinem Tagebuch vermerkte. Doch am besten konnte er kämpfen. Er schrieb sogar, dass der Krieg ihn wieder mitgerissen habe. Vom Feldwebel stieg er zum Major und Bataillonskommandeur auf – was eher selten war. Ein glänzender Kämpfer, obwohl er ein ganz anderes Leben erträumt hatte: Liebe, friedliches Dasein, Bücher schreiben, Kameradschaft. All das steht in seinem Tagebuch. Und es zeigt nicht nur die Menschen im Krieg, sondern auch das Wesen dieses Krieges. Slavgorodskij kämpfte seit 1941, schrieb über die Anfangsmonate, über die Schlacht um Stalingrad – und starb im Januar 1945. N. VASILENKO: Sie haben das Tagebuch von Slavgorodskij erwähnt – gibt es weitere Tagebücher, die Historiker dazu gebracht haben, Ereignisse des Großen Vaterländischen Krieges oder des Zweiten Weltkriegs neu zu überdenken? Vielleicht auch Tagebücher aus dem Ausland? O. BUDNIZKIJ: Ich möchte mich auf unsere Geschichte konzentrieren. Natürlich gibt es viele Tagebücher aus dem Ausland – etwa aus Deutschland. Dort war das Führen persönlicher Aufzeichnungen sogar erwünscht, ganz im Gegensatz zur UdSSR. Bei uns gab es zwar kein ausdrückliches Verbot, aber im Klima der Geheimhaltung war es de facto nicht gestattet. In manchen Fällen wurde das ignoriert. Tagebücher sind sehr unterschiedlich. Das von Wladimir Gelfand zum Beispiel – das ich veröffentlicht habe – umfasst 750 Seiten mit Kommentaren. Ich habe Gelfand auch in Menschen im Krieg porträtiert. Er führte Tagebuch seit der Schulzeit bis 1946, bis zu seiner Dienstzeit in der Besatzungsarmee in Deutschland. Ein faszinierender Text eines sehr naiven, offenen jungen Mannes, der Schriftsteller werden wollte. Viele Tagebuchschreiber hegten diesen Wunsch. Gelfand notierte Dinge, die ein Erwachsener, ein „verständiger Mensch“, nicht einmal für sich selbst zu Papier bringen würde. An manchen Stellen spürt man: Er schreibt nicht nur für sich. Hochinteressant: das Leben, die Sitten in der Armee, die Wahrnehmung der Geschehnisse – alles dokumentiert. O. BUDNIZKIJ: Er war ein Sowjetmensch bis ins Mark – Komsomolze, dann junger Kommunist. Und zugleich notierte er mit einem gewissen Entsetzen seine Eindrücke. Wieder war es am Don, dort, wo einst der Bürgerkrieg tobte, wo die Beziehungen zur Sowjetmacht stets schwierig gewesen waren – Enteignungen und vieles mehr. Nach einigen Wochen dort, nach den Kämpfen, schrieb er: Zum ersten Mal hörte er das Wort „unsere“ – bezogen auf die Rote Armee, die zur Befreiung kam. An diesem Ort sprach niemand von „uns“, nicht im Sinne von „unsere“ Soldaten. Dort gab es nur „Russen“ und „Deutsche“. Ein bemerkenswerter Eintrag. Er schrieb zum Beispiel auch über den allgegenwärtigen Antisemitismus in der sowjetischen Gesellschaft – auch innerhalb der Roten Armee während des Krieges. Das ist ein Paradox: dieselbe Armee, die den Faschismus besiegte, Auschwitz befreite, war zugleich geprägt von antisemitischen Äußerungen, die Gelfand hautnah erlebte. Und gerade das macht sein Tagebuch aus der Zeit in Deutschland so einzigartig und spannend. Es erschien zuerst auf Deutsch – jener Teil, der sich mit Deutschland beschäftigt – und verkaufte sich dort in einer riesigen Auflage von über 80.000 Exemplaren. Erst später wurde es vollständig auf Russisch veröffentlicht, herausgegeben von meinen Kollegen und mir. Dieses Tagebuch bietet einen Querschnitt durch die Kriegsgeschichte – aus der Perspektive eines Beteiligten, der noch nicht weiß, wie man über den Krieg „richtig“ schreiben soll, weil es noch keinen offiziellen Kanon gibt. Auch wenn gelegentlich eine amtliche Sprache durchbricht, handelt es sich im Wesentlichen um Aufzeichnungen über das, was ein Mensch tatsächlich empfindet. N. VASILENKO: Doch all die üblichen Parolen – „Es lebe unser Führer!“, „Es lebe Genosse Stalin!“ – sprechen sie nicht auch von Angst? O. BUDNIZKIJ: Ganz unterschiedlich. Bei Gelfand zum Beispiel – wie gesagt, ein Sowjetmensch durch und durch – beobachtet man, dass er all die Grausamkeiten und Exzesse sieht, sie aber nicht mit Stalin in Verbindung bringt. Nach dem Krieg etwa, bei den Wahlen zum Obersten Sowjet, schreibt er: „Stalin ist meine große Sonne.“ So formuliert er es. Alles Gute wird mit Stalin assoziiert, alles Schlechte steht irgendwie außerhalb seines Einflusses. Das ist eine typische psychologische Haltung. In anderen Tagebüchern hingegen finden sich keinerlei Hinweise auf Vaterland, Partei oder Stalin. Die Menschen leben ganz im Heute, sie notieren, was sie erleben – ohne ideologischen Überbau. Ein besonders interessantes Beispiel ist das Tagebuch von Pawel Elkinson, Unteroffizier. Im Grunde besteht es aus etwa anderthalb Notizbüchern. Warum er mit dem Schreiben begann? Er kämpfte seit 1942, war an der Front. Und als seine Einheit den Pruth überschritt, schrieb er: „Vielleicht werde ich in meinem Leben nie wieder im Ausland sein – ich muss meine Eindrücke festhalten.“ Eine Art militärischer Tourismus also. Er kam durch Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien, Ungarn und Österreich. Und er schilderte seine Eindrücke von den Menschen, vom Leben, von der Kultur – und, natürlich, von den Frauen. Das Thema Frauen zieht sich wie ein roter Faden durch viele Kriegstagebücher. Nikolai Nikulin schrieb in seinen berühmten Memoiren – viele kennen sie wohl –, dass es drei Hauptthemen in den Gesprächen der Soldaten gab: Tod, Essen und Sex. Diese Interessen spiegeln sich auch in den Tagebüchern wider. Die Menschen konzentrierten sich auf das, was in ihrem militärischen Alltag wirklich zählte. N. VASILENKO: Gab es auch Zukunftsträume, Visionen? O. BUDNIZKIJ: Ja, die gab es. Ich habe ja schon von Georgi Slavgorodski gesprochen, und auch andere äußerten solche Träume. Aber sehr viele lebten ganz im Moment. Manche führten Tagebuch nicht nur zur Aufzeichnung von Eindrücken, sondern aus Einsamkeit – wie Gelfand. Er schreibt: „Tagebuch, mein lieber Freund.“ Er war völlig allein, tat sich schwer im Umgang mit anderen. Das lag nicht nur an den Umständen, sondern auch an seinem Charakter – ein Egozentriker. Vorauszudenken war schwierig, besonders für Menschen, die unmittelbar an den Kämpfen beteiligt waren – Infanteristen wie Slavgorodski, Mörserschützen wie Gelfand, oder Artilleriebeobachter wie Elkinson, der feindliches Feuer lenkte und sich an gefährlichen Positionen befand. Dennoch schafften sie es zu schreiben. Elkinson etwa notierte während der schweren Kämpfe in Ungarn 1945 – darunter die 120 Tage dauernde Belagerung Budapests – einen erschütternden Satz: „Wann bin ich dran?“ An einem einzigen Tag starben vier seiner Kameraden. Es war bereits Januar–Februar 1945, doch er rechnete nicht mehr mit dem Kriegsende. Es gab also Zukunftsfantasien, ja, aber sie stehen nicht im Zentrum dieser Texte. N. VASILENKO: Ich würde gerne über andere Quellen sprechen – amtliche Dokumente. Meistens erinnern wir uns im Zusammenhang mit dem Großen Vaterländischen Krieg an den Molotow-Ribbentrop-Pakt. Ich möchte am Beispiel dieses Abkommens die Frage der Verifikation beleuchten. Viele glauben auch heute nicht an die Echtheit der geheimen Zusatzprotokolle – trotz ihrer Freigabe. Es gibt Menschen, die sagen: „Das war notwendig“, „Wir haben Zeit und Ressourcen gewonnen“, andere sagen: „Das wurde alles von Chruschtschow oder Gorbatschow gefälscht.“ Wie bringt man einem Laien bei, dass diese Dokumente existieren – und echt sind? O. BUDNIZKIJ: Gar nicht. Es ist eine Frage des Glaubens. Natürlich besitzen wir das Original. Vielleicht erinnern Sie sich nicht mehr daran – aber 1989 jährte sich der Molotow-Ribbentrop-Pakt, inklusive der geheimen Zusatzprotokolle. Der Nichtangriffspakt selbst war nicht kriminell. Problematisch waren die geheimen Zusatzabkommen – aus meiner Sicht einer der größten Fehler Stalins, der ihn persönlich zu verantworten hatte. In einem der einleitenden Essays meines Buches analysiere ich, was Deutschland und was die Sowjetunion aus diesem Abkommen gewonnen haben. Deutschland profitierte enorm: keine Ostfront, freie Hand im Westen – und es gewann Frankreich, Belgien, die Niederlande und andere Länder mit mächtigen Industrien und Ressourcen. Die Sowjetunion gewann dagegen – nüchtern betrachtet, ohne moralische Bewertung – die Westukraine, Westweißrussland, das Baltikum, Teile Finnlands, Nordbukowina und Bessarabien. Ein schlechter Tausch. Was die Authentizität betrifft: Zu Sowjetzeiten wurde alles abgestritten. Die Existenz dieser Dokumente war ein schwerer Reputationsschaden für das kommunistische Regime – und für Stalin persönlich. Die geheimen Protokolle wurden von den Amerikanern zusammen mit anderen Materialien des deutschen Außenministeriums gefunden und publiziert. Beim Nürnberger Prozess wurde das Thema vermieden. Als der Kalte Krieg begann, veröffentlichte man diese Protokolle im Westen. In der UdSSR erschien daraufhin eine umfangreiche Publikation – Fälscher der Geschichte –, die diese Dokumente praktisch verschwieg, um das Wissen nicht in die Öffentlichkeit dringen zu lassen. N. VASILENKO: Informationslärm erzeugen – eine Art Schleier? O. BUDNIZKIJ: Ja, genau. 1989 wurde auf dem Kongress der Volksdeputierten vorgeschlagen, diese geheimen Protokolle und den gesamten Pakt zu verurteilen. Doch die Abgeordneten stimmten zunächst dagegen – weil sie behaupteten, es gebe nichts zu verurteilen. Ein Skandal. Dann trat meines Wissens Alexander Jakowlew auf – zuständig für den historischen Teil – und sagte: „Wir haben gesucht – und wir haben gefunden.“ Und er legte dieselben Dokumente vor, die – und das ist wirklich bemerkenswert – all die Jahre über nicht vernichtet, sondern sorgfältig aufbewahrt worden waren. Sie lagen in einer besonders gesicherten Geheimmappe des Generalsekretärs. N. VASILENKO: Das heißt, das wurde von einem Generalsekretär an den nächsten weitergereicht? O. BUDNIZKIJ: Genau, es wurde übermittelt. Und dann kam eben der Moment: Schauen Sie, hier sind sie, die Dokumente – tatsächlich vorhanden, tatsächlich echt. Sie wurden verurteilt. Bereits nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes wurden die geheimen Protokolle in der Zeitschrift Fragen der Geschichte als Faksimiles veröffentlicht und mehrfach nachgedruckt. Es handelt sich um originale Abbildungen – wer Zweifel hat, kann sie ansehen. Natürlich kann man behaupten, auch diese seien gefälscht. Aber das überschreitet die Grenzen des historischen Bewusstseins. Da beginnt der Bereich des Glaubens. N. VASILENKO: Dann lassen wir diese Frage im Bereich des Glaubens, und jeder möge nach seiner Überzeugung urteilen. O. BUDNIZKIJ: Ich möchte an dieser Stelle über Archivdokumente sprechen. Es gibt eine naive Vorstellung, dass Archive einfach so geöffnet würden… In Wirklichkeit sind sie in erheblichem Maße zugänglich. Wir verfügen heute über eine solche Fülle an Dokumenten, dass Historiker mehrere Generationen bräuchten, um alles zu sichten. Es handelt sich um gewaltige Mengen – man muss auswählen, was relevant, was weniger relevant ist. Aber ja, vieles bleibt auch verschlossen. Das ist korrekt. Besonders Unterlagen aus den Archiven des FSB, der Politischen Hauptverwaltung der Roten Armee usw. Wir wissen aber dennoch eine ganze Menge. Wichtig ist zu verstehen, dass Archivdokumente nicht die „absolute Wahrheit“ darstellen. Dokumente wurden zu bestimmten Zwecken erstellt. Sie dienten bestimmten Interessen. Und auch diese Texte müssen kritisch gelesen werden. Das Archivdokument muss einer historischen Kritik unterzogen werden. Man muss wissen, warum es geschrieben wurde. Der Text ist für sich genommen „stumm“ – er braucht Kontext, Interpretation. Das ist die Aufgabe des Historikers. Und deshalb betone ich die Bedeutung von Tagebüchern. Wenn wir Geschichte nur auf Basis offizieller Dokumente schreiben, wird sie unvollständig und verzerrt sein. Wenn wir hingegen verschiedene Dokumenttypen kombinieren – operative Unterlagen, politische Lageberichte, Materialien von Militärgerichten, Berichte des NKWD oder SMERSch über Stimmungslagen –, dann ergibt sich ein vielschichtiges, polyphones, komplexes Bild. Und gerade dafür sind persönliche Zeugnisse unerlässlich. Ohne sie lässt sich Geschichte nicht wirklich verstehen. Ein offizieller Kanon allein reicht nicht. N. VASILENKO: Ich möchte nun in die Vorkriegszeit übergehen – und auf Das andere Russland zu sprechen kommen. So heißt Ihr Buch, das den Nerv der Zeit getroffen hat und heute höchst aktuell ist. Meine Frage: Es gab ja dieses „andere Russland“, eine Alternative zum bolschewistischen Staat, bestehend aus Emigranten, verstreut über die ganze Welt. Vor allem in Europa war diese Exilgesellschaft stark vertreten, mit enormen Ressourcen – nicht nur personell, sondern auch in Form von Goldreserven. Warum gelang es dennoch nicht, ein starkes Zentrum des Widerstands gegen die Bolschewiki zu schaffen? O. BUDNIZKIJ: Verstehe. Aber lassen Sie mich zuvor kurz die Bücher zeigen, über die wir sprechen. Da ist Menschen im Krieg, über das wir bereits gesprochen haben – erschienen bei der Neuen Literarischen Rezension in der Reihe Was ist Russland. Und hier ist Das andere Russland – ebenfalls wunderschön ediert. Zunächst muss man verstehen: Von außen, aus dem Exil heraus, ist es noch nie gelungen, einen Regimewechsel herbeizuführen. Das können nur die Menschen tun, die im Land selbst leben. Natürlich kann man von außen Einfluss nehmen. Eine Persönlichkeit wie Alexander Iwanowitsch Herzen etwa hat das Denken der russischen Gesellschaft enorm geprägt, die freie russische Presse mitbegründet. Oder die sozialdemokratischen oder revolutionären Zeitschriften zu Beginn des 20. Jahrhunderts – Iskra, Revolutionäres Russland usw. – sie hatten Einfluss. Aber letztlich wird alles von den Menschen im Inneren entschieden. Kein Exilant hat je von außen ein Regime gestürzt. Zweitens: Es gab kein einheitliches Exilzentrum. Die Emigration spiegelte alle inneren Konflikte, die Russland prägten, im Ausland wider. Die Exilgemeinschaft war sehr heterogen. Es gab Monarchisten, Sozialisten anderer Couleur als die Bolschewiki – und eine große Masse einfacher Menschen, die vor Terror, Hunger, Rechtslosigkeit flohen. Der Mythos, dass es sich nur um eine Elite handelte, ist falsch. Die Mehrheit waren einfache Leute: Soldaten, Kosaken, Mitglieder unterschiedlichster antibolschewistischer Formationen – Weiße, Grüne, Anarchisten. Unter den Emigranten waren Generäle wie Denikin, Wrangel, Krasnow – Kosakenataman, General der Zarenarmee – aber auch der legendäre Anarchist Machno. Ebenso Kadetten und Liberale wie Pjotr Miliukow oder Wassili Maklakow. Auch Sozialisten und Revolutionäre verschiedenster Strömungen. Die Emigration war extrem zersplittert, ein gemeinsames Hauptquartier war unmöglich. Es gab Versuche, aus dem Exil Aktionen zu organisieren – meist erfolglos. Die Emigration war durchsetzt mit Agenten der GPU, später des NKWD. Die bekannteste Geschichte ist die Operation „Trust“: Eine fiktive antikommunistische Organisation wurde geschaffen, um Gegner in eine Falle zu locken. Boris Sawinkow kehrte daraufhin zurück in die UdSSR, wo er verhaftet wurde. Oder General Skoblin – letzter Kommandeur des Kornilow-Regiments, selbst NKWD-Agent. Er war an der Entführung von General Miller, dem Leiter der Russischen Allmilitärischen Union, beteiligt. Dieser wurde 1937 auf dem Dampfer Maria Uljanowa in die UdSSR verschleppt, saß zwei Jahre lang unter falschem Namen in der Lubjanka – 1939 wurde er erschossen. Oder der Ehemann von Marina Zwetajewa – Sergej Efron: ein ehemaliger Freiwilliger der Weißen Armee, der schließlich an die Bolschewiki glaubte, NKWD-Agent wurde, in die Sowjetunion zurückkehrte – und 1941 erschossen wurde. Und wir wissen, was mit Marina Zwetajewa geschah. Auch sie kehrte aus dem Exil zurück – weil sie dort geächtet war. Das erklärt, warum aus dem Exil heraus kein erfolgreicher Widerstand entstehen konnte. Aber ich möchte mich selbst ein Stück weit korrigieren: Zwar war die Mehrheit der Emigranten keine Elite, doch gab es im Exil eine bislang nie dagewesene Konzentration kultureller Eliten: Schriftsteller, Künstler, Publizisten, Dichter. Ich muss wohl kaum an Ivan Bunin erinnern – Literaturnobelpreisträger und Emigrant. Noch heute tragen Aktenordner im Staatsarchiv der Russischen Föderation den Titel: „Korrespondenz des weißen Emigranten Bunin“ – einst registriert vom NKWD, später vom Innenministerium. Auch viele Juristen emigrierten – denn in der UdSSR war ihre Arbeit überflüssig geworden. Unternehmer, die mit Kapital fliehen konnten, gründeten kleine Betriebe, einige waren sogar erfolgreich. Diplomaten, Militärs – eine breite Schicht von Berufstätigen. Und daraus entstand ein „anderes Russland“, geprägt von Menschen der alten Ordnung, aber auch von solchen, die ein neues Russland denken wollten. Darüber schreibe ich im Buch. Es geht um die Suche nach Wegen zur Überwindung des Bolschewismus, um Projekte für ein neues Russland. Ich schildere die Dialoge zwischen Wassili Maklakow und Boris Bachmetjew, mit denen das Buch beginnt. Wie stellten sie sich dieses neue Russland vor? Auf welchen Grundlagen sollte es entstehen? Ein überaus spannendes Projekt, wie ich finde. In den 1990er-Jahren – unter Boris Jelzin – gab es sogar einen Wettbewerb um eine „nationale Idee“ für Russland. Man könnte die Korrespondenz zwischen Bachmetjew und Maklakow lesen – dort wird diese Idee bereits erstaunlich klar formuliert. Aber, so scheint es mir: Von einer Umsetzung sind wir noch immer sehr, sehr weit entfernt. N. VASILENKO: In Russland muss man eben lange leben – wie die Klassiker sagten. O. BUDNIZKIJ: Das stimmt. N. VASILENKO: Ich möchte unseren Zuschauerinnen und Zuschauern etwas empfehlen. Zwar habe ich das Buch noch nicht im Handel gesehen, aber ich stieß auf eine Vorveröffentlichung in der Zeitschrift Znamja: Es handelt sich um den Roman Kremulator von Sasha Filipenko – die Geschichte eines weißen Emigranten, eines Offiziers namens Pawel Nesterenko, der später in die Sowjetunion zurückkehrt und Direktor des ersten Moskauer Krematoriums wird. Wer die Zerrissenheit der damaligen Emigration verstehen möchte, dem sei dieser Roman wärmstens ans Herz gelegt. Und natürlich kann ich vor unseren Zuschauerinnen und Zuschauern nicht verheimlichen, dass Sie, Oleg Vitaljewitsch, ein neues Buch veröffentlicht haben: Koltschaks Gold. Es gab bereits viele Fragen im Chat – und ich werde Sie nicht bitten, alle Geheimnisse und Schlussfolgerungen Ihrer historischen Recherche zu verraten. Ich möchte Sie lediglich bitten: Trennen Sie bitte Mythen und Fakten. Koltschaks Gold – was steckt dahinter? Wo liegt die Wahrheit, wo der Mythos? Und welche Mythen sind die bekanntesten? O. BUDNIZKIJ: Ich habe das Buch selbst erst vor drei Tagen erhalten. Es ist ebenfalls in der Reihe Was ist Russland? beim Verlag Neue Literarische Rezension erschienen. Was ist Koltschaks Gold? Es handelt sich dabei um einen erheblichen Teil der Goldreserven des Russischen Reiches. Genauer: um 645 Millionen Goldrubel – wenn man das in eine verständliche Größe bringen möchte. N. VASILENKO: Kann man das auf heutige Werte umrechnen? O. BUDNIZKIJ: Lassen Sie mich zunächst erklären, was das damals bedeutete – zur besseren Einordnung. N. VASILENKO: Einverstanden. O. BUDNIZKIJ: Ein Goldrubel entsprach 0,774 Gramm Feingold. Goldmünzen – in meinem Buch sind übrigens zahlreiche Abbildungen enthalten – waren etwa der „Imperial“ (15 Rubel), der „Halbimperial“ (7,5 Rubel), die am weitesten verbreitete Goldmünze war der Tscherwonetz. Die Goldreserven bestanden überwiegend aus Goldbarren und Münzen, darunter Prägungen aus 13 verschiedenen Staaten – am meisten deutsche Reichsmark, daneben britische Sovereigns und andere. Wenn man den Stand von 1917 nimmt – der Rubel war damals nicht mehr frei konvertierbar –, kann man ungefähr sagen: Zwei Rubel entsprachen einem US-Dollar. Zehn Rubel waren ein britisches Pfund. Das britische Pfund war damals die wichtigste Weltwährung. Insgesamt sprechen wir von etwa 490 Tonnen Gold. Was den heutigen Wert betrifft – das lässt sich nicht einfach umrechnen. Es gab so viele Formen der Geldentwertung und Kursveränderungen. Aber wir reden von Dutzenden Milliarden Dollar, vielleicht sogar mehr. N. VASILENKO: Überlassen wir diese Rechnung den Ökonomen. O. BUDNIZKIJ: Im Buch führe ich detaillierte Tabellen auf – über Wechselkurse, Goldpreise an der Londoner Börse usw. Wer möchte, kann es dort genau nachlesen. Aber klar ist: Es geht um eine gewaltige Summe. Was nun ist das „Geheimnis“? Von diesen 645 Millionen Goldrubeln gelangten 409 Millionen in die Hände der Bolschewiki. Die Differenz – 236 Millionen – ist enorm. Was geschah mit diesem Geld? Wo ist es geblieben? N. VASILENKO: Viele Fragen im Chat drehen sich um den Abtransport – wie wurde das Gold bewegt? O. BUDNIZKIJ: Das ist gut dokumentiert. Zunächst wurde das Gold per Zug von Omsk, wo es gelagert war, nach Wladiwostok gebracht. N. VASILENKO: Also unter Koltschaks Regie? O. BUDNIZKIJ: Genau. Es gibt zwar einen Spielfilm, der sogenannte „Goldzug“, aber der hat mit der Realität nichts zu tun. Tatsächlich gab es fünf solcher Goldtransporte („goldene Staffeln“), die das Gold nach Wladiwostok brachten. Von dort wurde es mit Schiffen weitertransportiert – nach Hongkong, wo es in den Tresoren der Hong Kong and Shanghai Bank (einer britischen Bank) deponiert wurde, sowie in französischen Banken, da französische Bankiers frühzeitig Gold von Koltschaks Regierung gekauft hatten. Ein Teil ging nach Japan – zur Yokohama Specie Bank und zur Chosen Bank. Das Gold wurde teils als Sicherheiten bei britischen und amerikanischen Banken hinterlegt – obwohl niemand die Koltschak-Regierung offiziell anerkannte. Das war ein großes Problem: Wie soll man staatliches Gold verkaufen, wenn man keine anerkannte Regierung ist? Ein heikler Akt. Eine Staffel erreichte ihr Ziel gar nicht – sie wurde in Chita von Ataman Semjonow erbeutet: Gold im Wert von 43,5 Millionen Rubel. Insgesamt gelangten rund 190 Millionen Rubel ins Ausland. Von wem das Gold wie ausgegeben wurde – das ist eine regelrechte Detektivgeschichte. Ein Teil wurde mit hohem Abschlag verkauft. Die Details sind spannend: Die Geschichte, wie dieses Gold genutzt wurde – für Waffen, Uniformen, selbst Schulbücher – oder eben nicht ausgegeben, sondern von Diplomaten gehütet wurde, teilweise als Rücklage für eine zukünftige postsowjetische Regierung. Ich habe nachverfolgt, wie dieses Gold bis in die späten 1950er Jahre verwendet wurde. Ein Teil wurde tatsächlich gestohlen – aber das war nur ein kleiner Bruchteil. Das Buch erzählt genau diese Geschichte. N. VASILENKO: Oleg Vitaljewitsch, wir haben nur noch etwa eine Minute. Ich werde Sie nicht bitten, alle Details zu verraten – das möge der Leser selbst im Buch nachlesen. Aber eine letzte Frage: Kam das Gold in irgendeiner Form nach Russland zurück? O. BUDNIZKIJ: Nein. N. VASILENKO: Verstanden. Wir haben heute über verschiedenste historische Phänomene gesprochen – und ich denke, diese Sendung wird bei vielen zum Nachdenken anregen. Ich verabschiede mich von Ihnen, Oleg Vitaljewitsch – bis zum nächsten Mal! O. BUDNIZKIJ: Vielen Dank. Alles Gute. N. VASILENKO: Ich erinnere noch einmal an die Bücher, über die wir gesprochen haben: Menschen im Krieg, Das andere Russland und Koltschaks Gold. Alle erschienen im Verlag Neue Literarische Rezension. Und wir setzen unsere Sendung fort. In wenigen Augenblicken wird sich Nikolaj Alexandrow zu uns schalten – mit einer weiteren Live-Besprechung neuer Bücher. Ich hatte ihm außerdem eine kleine „Hausaufgabe“ gegeben: Ljudmila Ulizkaja hatte angedeutet, der große Roman habe sich überlebt. Nikolaj sollte seine Meinung dazu äußern – und er hat es versprochen. Ich glaube, er ist bereits zugeschaltet. Nikolaj, kannst du mich hören? N. ALEXANDROW: Nikita, hallo! Ich höre dich sehr gut. N. VASILENKO: Hurra! Ich sehe und höre dich – und unsere Zuschauer im Chat grüßen auch. Ich habe unser Gespräch über den großen Roman bereits angekündigt. Und nun freuen wir uns auf deine Rezensionen! N. ALEXANDROW: Wenn wir an den klassischen „großen Roman“ denken, also an den Kanon, der sich im 19. Jahrhundert herausgebildet hat und übrigens auch in der Sowjetzeit bestens funktionierte, so sehen wir, dass auch in den letzten 30 Jahren durchaus Romane in dieser Tradition erschienen sind – sehr unterschiedliche. Eines der jüngsten Beispiele ist Wiktor Remisows Roman Permafrost, der dem Bau der sogenannten „Todesbahn“ Salechard–Igarka gewidmet ist – einem utopischen Projekt Stalins, das nie vollendet wurde, aber Tausende von Menschenleben forderte. Die Überreste dieser Bahnstrecke sind bis heute von Krasnojarsk und Salechard aus zu sehen. Diese Geschichte – so merkwürdig es klingt – wirkt heute fast veraltet, weil der Roman als Gattung ein geschlossenes, integriertes Weltbild verlangt. Der Roman ist immer Ausdruck einer Welt, in der Gesetze gelten – sei es moralisch, sozial oder metaphysisch. Es gäbe viele weitere Beispiele. Denken wir an Petersburg von Andrei Bely – ein Roman vom Anfang des 20. Jahrhunderts, der zwar nicht im Krieg geschrieben wurde, aber doch von einer drohenden Katastrophe durchdrungen ist. Bely schrieb ihn ganz anders als den klassischen russischen Roman. Auch er experimentierte zuvor mit Form und Stil – etwa in Die silberne Taube. Ein anderes Beispiel für eine zerstörte, in Trümmer zerfallene Welt liefert Wladimir Sorokin mit seinem Roman Doktor Garin, der an Der Schneesturm anschließt. Formell handelt es sich zwar um eine Liebesgeschichte, aber wir betreten eine Welt aus Fragmenten, eine Welt, die – wenn man sich erinnert – mit dem Bild einer psychiatrischen Klinik beginnt. Diese Klinik heißt „Altai-Zedern“, und dort befinden sich ehemalige Weltherrscher – allesamt erkennbar. Angela zum Beispiel. Oder Wladimir, dessen einzige Antwort lautet: „Ich bin es nicht.“ Diese Worte wiederholt er wie ein Mantra. Die alten Machthaber erscheinen hier in einer grotesken, fast geisterhaften Weise. Ein Roman, der Sorokin stilistisch durchaus nahekommt und ebenfalls verschiedene Weltfragmente miteinander zu verbinden versucht, ist Alexander Sobolevs Greife bewachen die Leier, erschienen im Verlag Ivan Limbach. Es zeigt ein alternatives Moskau der 1950er Jahre, das der revolutionären Katastrophe entgangen ist. Der Roman wurde von der Kritik aufmerksam wahrgenommen, und ich empfehle ihn insbesondere jenen, die ihn noch nicht kennen. Er endet, wie so viele dieser Texte, mit einer Vorahnung des Krieges. Ebenfalls im Verlag Ivan Limbach erscheint bald ein neuer Roman von Alexander Sobolev: Schatten über der rechten Schulter. Die Handlung spielt im Jahr 1916 – einem bedeutungsvollen Jahr, das viele Assoziationen weckt. Mehr möchte ich noch nicht verraten – weder zur Handlung noch zum erzählerischen Konzept. Aber wir werden sicher noch Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Dieser Zustand einer zerbrochenen Welt, das Fragmentarische, das Unfertige – all das führt zu seltsamen Mischformen, zu überraschenden Kollisionen. Und es ist kein Zufall, dass ich so viel über Ivan Limbach spreche – heute ist, so scheint es, mein St. Petersburger Limbach-Tag. Ich entschuldige mich bei allen anderen Verlagen – normalerweise bemühe ich mich in meinen Rezensionen um Ausgewogenheit. Aber heute ist es eben so gekommen. N. VASILENKO: Dieser Verlag hat es verdient – das muss man ehrlich sagen. N. ALEXANDROW: Ja, ja. Kürzlich ist dort ein Gedichtband des großartigen Petersburger Lyrikers Viktor Krivulin erschienen – Engel des Krieges. Es sind Gedichte aus den 1960er und 1970er Jahren, die sich heute ganz anders lesen – durchdrungen von der Ahnung von Krieg und Katastrophe. Krivulin wurde 1944 in einem Militärkrankenhaus geboren. Diese „genetische Erfahrung“, wie man vielleicht sagen kann – das Gedächtnis des Krieges –, zieht sich durch seine gesamte Dichtung, die sich auf die unterschiedlichsten Themen bezieht. Für Krivulin war etwa das Jahr 1968 besonders bedeutsam – die „Asche über Europa“, die Tschechoslowakei, die in seiner poetischen Vorstellung kurz davor stand, selbst zu Asche zu werden. Heute lesen wir das mit anderen Augen. Vorgestern wurde mir ein zweibändiges Werk Krivulins überreicht, das in Israel erschienen ist – eine Sammlung, herausgegeben von seiner ersten Frau, der Literaturwissenschaftlerin Anna Katzman. Es enthält zwei handgeschriebene Notizbücher, die jahrzehntelang als verschollen galten und erst nach einem halben Jahrhundert wiederentdeckt wurden. Ich hoffe sehr, dass meine Erwähnung dieses Fundes nicht zu Urheberrechtskonflikten führt – das wäre das Letzte, was wir brauchen. Ja, es gibt gewisse inhaltliche Überschneidungen, aber ich hoffe, das lässt sich friedlich klären. Das Gedicht, das den Band Engel des Krieges eröffnet, heißt ebenfalls so – Engel des Krieges. Ich möchte es zitieren:
Ein weiteres Buch wollte ich noch erwähnen – ganz kurz, denn wir werden sicher noch ausführlicher darüber sprechen: Es ist von Jonathan Schneer und erscheint demnächst ebenfalls im Ivan Limbach Verlag. Der Titel: Die Lockhart-Verschwörung: Liebe, Verrat, Mord und Konterrevolution im Russland Lenins. Es geht um Versuche, die bolschewistische Macht im Jahr 1918 zu stürzen – ein Thema, das sicherlich viele interessieren wird. N. VASILENKO: Heute haben wir über Vergangenheit gesprochen – und doch hatte ich das Gefühl, als hätten wir einfach aus dem Fenster geschaut. Nikolai Alexandrow, „Bücher“ – vielen Dank! N. ALEXANDROW: Nikita, danke dir! N. VASILENKO: Und ich verabschiede mich von allen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Unsere Sendung geht weiter: Um 16 Uhr folgt das Dithyramb-Programm auf dem Kanal Living Nail. Olga Shuravljowa wird mit Joseph Reichelgauz sprechen. Kommen Sie also um 16 Uhr wieder zurück – wir sagen noch nicht Lebewohl. Und nicht vergessen: shop.diletant.media – dort finden Sie die neuesten Ausgaben des Magazins Diletant und viele interessante Neuerscheinungen. |
