



Новые источники по истории Второй мировой войны: дневники |
||
нояб 29 2021 |
||
|
Лектор: Олег Будницкий |
||
| |
||
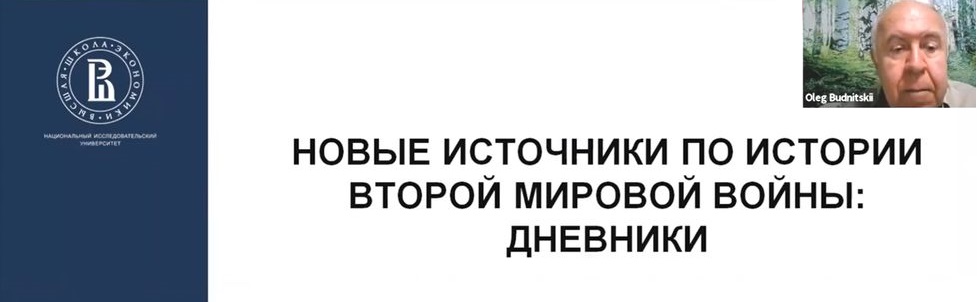 |
||
| |
||
|
Дорогие коллеги, здравствуйте! Спасибо вам за то, что к нам сегодня
подключились. Мы начинаем новый блок нашей лаборатории. Этот блок будет
посвящён военным дневникам и, в частности, одному ранее не публиковавшемуся
дневнику. Он хранится в архиве Еврейского музея и Центра толерантности, и его мы
сможем почитать и обсудить на следующей нашей встрече. А сегодня мы услышим
лекцию, посвящённую специфике жанра военного дневника и специфике самого
способа вести дневник в 40-х годах, в советских условиях и в условиях войны. Наш сегодняшний лектор в особом представлении не нуждается, я думаю. Это
Олег Витальевич Будницкий, историк, профессор Высшей школы экономики и директор
Института советской и постсоветской истории Высшей школы экономики. Публикатор
большого количества эго-документов, в том числе и военного времени. Олег
Витальевич, вам слово. Да, спасибо, Георгий. И у нас какой вообще формат? На сколько у нас лекция
рассчитана? Где-то час. Слушатели там не завянут вообще? Я бы просто хотел, чтобы тут не было
такого говорения, тем более в чёрном квадрате. Там какие-то ревью написаны.
Иногда приятно посмотреть на лица слушателей. Я бы хотел, чтобы как-то это у
нас проходило не в той форме, что я вещаю, а слушать, чтобы была какая-то
обратная связь. То есть, если возникают какие-то вопросы по ходу дела, то как-то... Я
думаю, Георгий, вы будете вести, да? Если кто-то в английском хочет спросить,
то есть вопросы, и можно его задать устно, чтобы все слышали, или написать в
чат, тогда вы его озвучьте. Если по ходу дела возникают какие-то вопросы, я
думаю, что это довольно продуктивная форма, особенно когда мы в таком
онлайн-режиме. Это первое. Ну, собственно, второе – это о военных дневниках. Кто их вёл, при каких
обстоятельствах, кем были эти люди, почему они вели дневники и так далее. И по
большому счёту эти вопросы ничем не отличаются от тех же вопросов, которые
задают исследователи дневников или историки, которые используют дневник как
исторический источник, пытаются что-то извлечь. Разница лишь в том, что это война, и это в высшей степени неудобное время
для ведения дневника. Ну, хотя бы потому, что все стреляют на войне. Стреляют,
бомбят и много чего другое. И как вообще технически можно вести дневник? Возникает вопрос, кто мог эти
дневники вести, и сколько вообще этих военных дневников, и можно перечислять и
дальше-дальше эти вопросы. Сразу я хочу снять один такой вопрос, который всегда мне задают. Ведь вести
дневники на войне было запрещено. Всегда говорят. В любой аудитории эта тема возникает. На самом деле,
никакого специального приказа о том, что запрещено вести дневники, никогда
издано не было. Во всяком случае, он историками до сих пор не
обнаружен. Были общие представления о секретности, общие соображения о
секретности. И, в общем-то, учитывая эти обстоятельства, вести дневники,
конечно, было совсем нехорошим делом, если попадет в руки противника. А такие случаи, кстати, бывали. Тогда по этому
дневнику можно что-то понять о состоянии противника, в данном случае Красной
армии. Если даже там нет конкретных сведений о месторасположении, планах и еще
о чем-то, в дневниках обычно об этом не пишут или пишут крайне редко, то там
будет понятно в какой-то степени, каково состояние моральное, состояние
снабжения, взаимоотношения внутри Красной армии и для противника это уже ценная
информация. Поэтому часто тех, кто вел дневник, (просили) дальше
не надо этого делать. Как вспоминал Зиновий Черниловский, юрист, который во время войны был
замполитом пулеметной роты, командир, заметив, что он ведет дневник, просто
взял его и бросил в печку в избе, растопленную, в которой они стояли, и сказал,
что товарищ Сталин приказал расстреливать тех, кто ведет дневник. Ну, товарищ
Сталин ничего такого не приказывал, но характерно представление командира, что
это страшное преступление. Есть и совершенно противоположные случаи, когда люди открыто совершенно
вели дневники, более того, иногда читали их вслух товарищам, то есть никакого
единства здесь не было. Видимо, по большей части это не приветствовалось, но в
то же время во многих случаях люди открыто вели дневники и никто им худого
слова не говорил. Иногда бывали беседы у тех, кто делал какие-то заметки с
сотрудниками особых отделов. Например, военный переводчик Ирина Дунаевская вспоминает, что с ней
несколько раз по разным поводам беседовали разные особисты и интересовались,
что там она записывает. Поскольку там не было ни номеров частей, ни фамилий, в
общем, не было того, что есть военная тайна, то говорили, ну ладно, можешь
продолжать делать записи, только смотри, чтобы ничего такого не было. Другой случай, известный или менее известный, я бы даже сказал, скорее
менее известный, Елена Каган, переводчик специальной группы СМЕРШ, заданием
которой было отыскать Гитлера или его останки, так она всю войну делала записи. Елена Каган более известна под своим литературным псевдонимом, который стал
последствием фамилии Елена Ржевская. Понятно, что она вела записи, потому что
до начала войны она была студенткой литературного института, она хотела быть
писателем, потом действительно и ею стала, и на войне она пыталась делать
записи и, собственно, делала. И впоследствии, когда я познакомился с ее этими
тетрадями фронтовыми, понятно, что очень многие ее вещи, они просто выросли из
этих записей, и это, в общем, такие литературно обработанные дневники военного
времени. Так вот, когда они действительно обнаружили труп Гитлера и было произведено
вскрытие, вскрывала, кстати, женщина Анна Маранс, главный патологоанатом,
исполняющая обязанности главного патологоанатома 1-го Белорусского фронта,
майор медицинской службы. Останки были ужасно обгоревшие, понять, кто это был
такой, было крайне сложно, но челюсти – зубы, оказались в прекрасной
сохранности, ведь это стопроцентный идентификатор личности. И Елена Каган,
лейтенант, она, в общем-то, записывала, что там происходило и так далее. Потом им сказали, что это все страшный секрет. Одним из парадоксов
общесоветской политики было то, что об обнаружении трупа Гитлера не было
объявлено. Это, можно говорить, полишинели. В общем, на Западе о том, что произошло с Гитлером, хорошо знали. Эту
информацию было невозможно скрыть при определенном количестве свидетелей, теми,
кто успел убежать из Берлина и так далее. Но, видимо, сообщили, что Гитлер
покончил с собой, но об обнаружении трупа не сообщали. И, возможно, это была такая вот страшилка, что, смотрите, может быть,
Гитлер скрывается, поэтому нужно быть всем начеку и так далее. Это мои домыслы,
но я не знаю, чем еще можно это объяснить. Так вот, Елена Каган, она тщательно
заштриховала (в дневниках) все то, что касается зубов Гитлера. Тетрадь она все-таки не уничтожила, но вот это все было заштриховано. Она
давала подписку о неразглашении, и это, в общем, хранилось, так сказать, ну не за
семью печатями - но хранилось у нее
дома, и она никому не рассказывала до тех пор, пока не опубликовала двадцать
лет спустя после этих событий, книжку под названием «Берлин, май 45-го года.
Записки военного переводчика», где вот впервые поведала миру обстоятельства
всего этого дела. И хотя это произведение называется «Записками»,
это, конечно, не совсем записки, это вот такой текст, написанный на основе
дневника. Возвращаемся к тем, кто вел дневники и почему эти люди вели дневники. Ну,
во-первых, это люди образованные, по крайней мере, если не закончившие среднюю
школу. Это уже был очень образованный человек в предвоенном Советском Союзе. И, кстати, надо понимать, что идея культурной революции и так далее — это
такой большой советский миф. В каком плане миф? В том плане, что накануне войны
население было все-таки еще не слишком грамотное. Если мне память не изменяет,
то на каждую тысячу взрослого населения приходилось 70, ну, там, с долями
цифры, я называю, конечно, крылья это целого, порядка 77 человек со средним
образованием и 6 и 7 человек - с высшим образованием. Так, их очень немного. И это, как правило, это городские жители. Львиная
доля населения страны, что там она думала, как переживала войну, нам это
известно крайне плохо. Львиная доля — это
крестьянство, это сельские жители. Их накануне войны еще две трети населения по
переписи 1939 года. Так что вот те, кто ввел дневники, это представители
меньшинства. Меньшинства незначительного образованного
городского и еще имеющего обыкновения что-то записывать. Да еще в тех условиях,
когда во многих случаях, и, пожалуй, в большинстве записывать, в общем, не
рекомендовалось, или запрещалось. Так, и казалось бы, что при этих условиях у нас считалось до, я не знаю,
лет 20 тому назад, что военные дневники — это совершенно уникальное явление,
что их крайне мало. Их действительно крайне мало, если сопоставлять общую численность Красной армии.
Общая численность Красной армии, - вот кто скажет на вскидку, какова
численность Красной Армии за время войны? Предположим. 30 миллионов. Ну вот видите, замечательно. Так, лучше вы знаете. Но, не совсем. Несколько больше. 34,5 миллиона. 34,5 миллиона —
это предвоенная армия, пятимиллионная, более чем пятимиллионная, и 29,5
миллиона человек мобилизовали, призвали в армию в годы войны. Так, значит,
конечно, это ничтожная доля. И, скажем, речь поначалу шла о десятках дневников. Выяснилось, что их
сотни, по минимуму нам известные и опубликованные по большей части. И, скорее
всего, тысячи. Тысячи, которые… Есть надежда, что они где-то сохранились. Прежде всего, в
домашних архивах. Плюс к этому некоторые, возможно, не были уничтожены
сотрудниками спецслужб при аресте, потому что в ряде случаев введение дневника
служило основанием для ареста. Если человек что-то такое записывал или кто-нибудь на него донес. Иногда эти дневники, довольно редко, сдавались на хранение в архивы
государственные. Но, по большей части, они обнаруживаются в домашних архивах. Я иногда веду передачи на радио «Эхо Москвы» в программе «Цена победы» и я
несколько раз заканчивал свои передачи призывом, обращением, что если у кого-то
есть в домашних архивах дневники или какие-то документы военного времени, не
позднейшие, через 50-60 лет взятые интервью или воспоминания, записанные
кем-то, а дневники, записанные тогда, писавшиеся тогда, здесь и сейчас. Когда
человек не знал не только то, что с ним будет завтра, но иногда и не знал,
будет ли он жив сегодня вечером. И, к моему удивлению, люди откликались и
присылали сканы, иногда передавали оригиналы дневников из самых разных мест. Там, я не знаю, Новосибирск, Москвы, Штутгарт — самых неожиданных мест. До
Нью-Йорка приходили какие-то дневники или дневниковые записи, иногда
переписанные, к сожалению, впоследствии авторами. Иногда бывали случаи, когда
родственники переписывали и на дневниках явные следы редактуры в этом случае. Если нет оригинала, то, конечно, к тексту нужно относиться крайне осторожно
и проверять. Например, очень интересный дневник «Медсестры» мне прислали. Ещё
там замечательно, и видно, что там какие-то моменты действительно писали здесь
и сейчас, и вдруг там идёт что-то о фильме «Кубанские казаки», который, как
известно, был снят после войны. И понятно, что в 1942 году вспоминать о счастливой жизни по фильму
«Кубанские казаки» автор дневника никак не могла. Но все мои попытки… Причём
переписала дневник сама автор. А её дочка упорно не хотела предоставить
оригинал. «Мама так хотела, я в таком тапе должна быть». Вот такие бывают случаи. Это
не означает, что любой переписанный дневник на самом деле как-то
отредактирован. Бывает, что действительно, когда рассыпающиеся листочки, тогда уже люди
переписывали, перепечатывали и так далее. Что ещё можно сказать об авторах дневников? Почему писали, кто писал?
Писать на передовой дневники практически невозможно. Хотя случаи такие бывали. Не частые, но бывали, когда дневники писали люди
и в том числе в ходе боевых действий. Я об одном таком дневнике расскажу
поподробнее. Чаще всего это офицеры или командиры, как они их называли до конца 1942
года, когда были офицерские звания, нередко это переводчики, сотрудники -
работники штаба - штабные работники, политработники. Конечно, немало текстов
осталось от журналистов, которым разрешалось делать записи, - военных
журналистов. И писали люди, не имевшие к литературе какого-то отношения, но
мечтавшие стать писателями впоследствии. Это не единичный случай. Скажем, Борис Сурис, одессит, он немножко иронично
писал, что «я хочу написать р-роман». «Роман» писал там с тремя «р». Ну, шуточки-шуточками, но он между делом выписывал фамилии немцев, которых
допрашивал как переводчик, для того, чтобы использовать их в будущем романе.
Ну, роман он в итоге так и не написал. Написал замечательный дневник, он
опубликован - оригинал дневника Бориса Суриса. Он стал художником. Его дети,
внуки уехали в Израиль, и здесь где-то у них есть оригинал дневника. Дневник
опубликован в Москве, замечательно интересный, но вот такое ощущение, что
какие-то фрагменты там опущены. Олег Витальевич,
извините, пожалуйста, что перебиваю, но у некоторых не видно демонстрации
экрана. Вы бы могли ее выключить и включить снова? Она приостановлена просто. Да, приостановлена. Она просто приостановлена, я потом ее, значит, продолжу. Пока только
заголовок, больше ничего. Как я уже говорил, Елена Каган собиралась стать и стала писателем. Ирина
Дунаевская вела такие дневниковые записи и говорила, «а может быть я, вот такая
простая девчонка, когда-нибудь напишу книгу о войне?». Ну, простая девчонка
вообще-то училась на Восточном факультете Ленинградского университета. В общем,
хорошо или плохо, но владела немецким языком и так далее. После войны стала относительно известным историком-востоковедом. Занималась
Древним Востоком, сектами. И там любопытные такие вещи. Она поступила,
по-моему, на русское отделение, потом она перешла на иностранное отделение,
потом уже на востоковедение. И в одной из своих записей она досадует, что она
читает раннего Табриана в переводе, потому что в оригинале достать невозможно.
А она такая была, простая девчонка. Вот кто был совсем, ну, в кавычках, конечно, простой, простых людей вообще
не бывает, и мечтал тоже стать писателем, это Владимир Гельфанд. Вот о
дневнике, которого я сейчас расскажу подробно, потому что, я смотрю, люди уже
стосковались по картинкам, говорящая голова немножко утомляет. И дневник,
которого ваш покорный слуга вместе с сотрудниками Татьяной Львовной Ворониной и
Ириной Махаловой опубликовали с подробными примечаниями, иллюстрациями и так
далее. Но история такова. История такова этого дневника, точнее, этой публикации.
Мне, собственно, попадались в интернете такого, ну, скажем, любительского плана
публикации этого дневника. Но это сложно было назвать публикацией, потому что явно были соединены
вместе разного рода документы. Там дневник, какие-то заявления, характеристики,
письма, явно есть какая-то путаница в словах и так далее. Рассказывая в одной из передач, посвященных военным дневникам, я упомянул
об этом дневнике, потрясающем, который потрясает двумя вещами. Во-первых, своим
объемом. Он начат летом 41-го года, а завершается осенью 46-го, когда автор
дневника, служивший в Германии в оккупационных войсках советских, собственно,
уже демобилизовался и едет домой, в Днепропетровск. И, во-вторых, совершенно запредельная откровенность. После этой передачи на
радио позвонил сын автора дневника. Автора дневника уже не было в живых, он, к
сожалению, прожил не очень долгую жизнь, в 60 лет скончался. Сын позвонил, он живет в Берлине, Виталий Владимирович Гельфанд. Он
позвонил на радио, там дали мой телефон, он сказал, что хочет издать его в
России. Дневник к этому времени вышел, часть его, по-немецки, и был переведен
даже на шведский язык. Но там та часть, которая посвящена была только его пребыванию в Германии.
Сначала в качестве завоевателя, а потом в качестве офицера оккупационных войск.
Ну и настал момент, когда я начал говорить, что нужно еще сканы всего этого
делать, потому что явно что-то нужно расшифровать, как-то систематизировать и
так далее. Но в один прекрасный день я оказался в квартире Виталия Владимировича в
Берлине. И меня еще интересовало: гигантский объем, как это все было возможно? Там стояла такая коробка. Это коробка, в которой были сложены записные
книжки, отдельные листы и вообще все, на чем можно было писать. Бумага была,
конечно, страшным дефицитом в военное время. И вот смотрите, значит, фрагмент
дневника. Вот так это выглядит, и это расшифровка. Это расшифровка, которая была сделана
для этого текста. Вот еще один фрагмент. Видите, как это записано? Вот это то, что было записано в 1941, а это в
1942. Второе - это Церетели и вокруг запись. Видимо, это вырвана страница из
книги с сочинениями Церетели. Есть где писать, и тут идет запись. Чем замечательный этот дневник? Несколькими вещами. Во-первых, его автор
очень наивный. Он практически со школьной скамьи, но с небольшим периодом, пока
ему не исполнилось 18 лет, не был призван в армию. Он служил электриком в
Ессентуках. Он вот был таким полусформировавшимся полуподростком, полуюношей. Вот он этот дневник ведет. Не знаю, может быть, он вел дневниковый этап еще
раньше, но он начинается в 1941 году. И первая его реакция (на начавшуюся войну)...
«Кстати, вот тоже началась война, но теперь придется изменить планы на
каникулы». Действительно, планы на каникулы пришлось изменить. И он... Дневники
всё-таки ведут обычно, имея в виду какого-то читателя будущего. Даже если
декларируешь, что всё это для себя и так далее, но как-то человек до последней
такой откровенности обычно не идёт. Здесь другой случай. Здесь это чрезвычайно откровенно, просто в высшей
степени откровенно. Он пишет о себе какие-то крайне нелицеприятные вещи,
которые, не знаю, более взрослый человек, наверное, не стал бы записывать. В
том числе и свои какие-то неприятные поступки и так далее. Что ещё в этом дневнике поражает, кроме его объёма, продолжительности и
откровенности? То, что это пишет человек из
реально боевых частей, он минометчик, хуже, в смысле ближе к смерти, только
пехота, и он эти записи продолжает вести во время обстрела, во время боев. После того, как в один конец окопа Лидного попал снаряд,
тех, кто там находился, убило, а он опять чудом уцелел. Вообще за все время
войны он был один раз ранен в палец, это была крайне неприятная штука, потому
что там возникло нагноение, панариций и так далее, он попал в госпиталь, долго
его приводили в чувство, но ему, конечно, в этом плане повезло, потому что он
был в очень горячих боях, особенно, скажем, осенью 43-го года в боях за
Украину, довольно страшных, просто чудовищных сражениях, и он там просто потерял
счет дням, он не знает, какое число, но продолжает записывать. Некоторые записи просто такие ужасающие: он разговорился,
значит, с девушкой, с санинструктором, ну, явно она ему понравилась, он
отмечает, его все время обходят, обделяют наградами, он очень это переживает,
вот девушка с медалью и так далее, они с ним поговорили, что-то у нее было,
значит, там какое-то плохое предчувствие, но для нее все будет хорошо,
начинается обстрел, и он галантно уступает ей свой окоп, который он отрыл
индивидуально, но он глубже, и сам там где-то тоже залег, и снаряд попадает
именно в этот самый окоп, который он уступил девушке, и он так описывает, что
от нее осталось, там нога, там еще какие-то части тела, в общем, как-то это он
заставил солдат собрать, похоронить, записал на дощечке, кто это и так далее. Что важно в данном случае, кроме вот таких поразительных
и устрашающих вещей, показана такая реальная война, то, что это все можно
проверить. Есть же, по счастью, электронные базы данных Министерства обороны,
общедоступные, например, "Мемориал", и можно пойти на базу данных
"Мемориал", набрать фамилию, имя этой погибшей девушки, и убедиться,
что Гельфанд действительно это записал как раз в день ее гибели и так далее.
Также можно прочитать о ней в связи с ее наградой в базе данных "Подвиг
народа", где собраны наградные листы всех участников войны и так далее. Что еще характерно для этого дневника, он вообще ничего
не приукрашивал. В армию на фронт он попал рядовым, стал сержантом в период
Харьковской катастрофы в мае 1942 года, когда Красная армия пыталась
осуществить наступление, освободить Харьков, но план был неудачен, неверно
оценили силы противника, как раз здесь немцы готовились к наступлению,
сильнейший контрудар, Харьковское окружение, колоссальные потери, и после этого
как раз Красная армия стала откатываться к Дону, а потом и к Сталинграду. Вот
этот вот тяжелейший момент он описывает, и у некоторых авторов дневников есть
такое свойство, как-то, если не приукрашивать, то, во всяком случае, не слишком
расписывать какие-то негативные моменты. Он пишет все и без прикрас. Но, возможно, самая интересная часть его дневника связана
с пребыванием в Германии. Вы знаете, что на тему Красной армии в Германии,
взаимоотношений с местным населением, скажем, не всегда джентльменским
обращением с немками, у него в дневнике написано об этом, есть там полемика на
эту тему и так далее. У него в дневнике довольно подробно расписаны и некоторые
эпизоды, которые он наблюдал, и его собственные взаимоотношения с немецкими
женщинами. Например, вот запись от 15 мая 1945 года. «Несколько дней назад я встретил возле столовой двух
красивеньких немецких девушек, разговаривали, они меня сравнивали с итальянцем
и говорили, что у меня очень черный волос, делали комплименты, о чем я не преминул
заметить. Слово "комплимент" вызвало почему-то у них восторг, и они
плеском руками выразили мимикой свою радость», ну и так далее. Но в чем тут интерес всей этой истории? Девушки были не
одни, с ними была мамаша, и они хотели еды. Он им вынес каких-то пирожков, и
они пришли в полный восторг. Мамаша явно пришла поторговать своими дочками,
дочки, видимо, тоже были не против, но Гельфанд это, как бы, не совсем понял. А он вообще, одна из таких центральных тем его дневника,
девственник такой, да, и он все как-то хочет с этой девственностью своей
расстаться, и все никак не удается. Хотя во многих случаях его просто
укладывают в постель, но он как-то отдаляется, не знает вообще, как себя вести.
Со своей этой невинностью он расстался в Германии с немкой. Причем тоже любопытная история: что такое начитанный мальчик.
Он разбирал одну из немецких библиотек, чтобы эти книги отправить в Москву, в
СССР для компенсации ущерба, нанесенного немцами, и он ужасно переживает по
этому поводу. Почему? Ведь тут же будут строить социализм, а он убежденный
советский человек, да, тут же будут строить социализм, и как же они без этих
важных книг, да, им будет трудно. В одной из книг он прочел - полностью медицинская книга, -
и то, что он там понял по-немецки, он понял, что если вот сейчас с ним этого не
случится, то все, потом, значит, ничего не получится. Он вышел на улицу,
подозвал немку, первую попавшуюся, и предложил ей с ним переспать. Та согласилась, почему согласилась, довольно очевидно.
Когда советский офицер говорил, иди сюда, то отказываться это было не принято,
ведь у него, кроме всего прочего, был пистолет на боку. И он описывает свое
грехопадение в мельчайших подробностях. Дальше уже он пустился во все тяжкие, и наивный уже
перестал совсем походить на наивного мальчика; стал завсегдатаем черного рынка,
познакомился не с одной немецкой женщиной. В конце концов, это окончилось тем,
чем нередко заканчивается, он заболел гонореей, и опять-таки, подробнейшим
образом он описывает, как его от этого дела лечили. Лечение было совершенно
варварское. Эти тексты надо давать молодым людям в пубертатный период, чтобы
они понимали, чем некоторые похождения могут закончиться. В общем, все в итоге
кончилось хорошо. Из того, что я пересказываю, думаю, уже понятно, почему
дневники являются совершенно уникальным источником по истории войны. Сложился
уже некий канон истории войны, и то, что говорят и пишут о войне многие
ветераны, подавляющее большинство, это то, что они считают правильным, и очень
часто не так легко добраться до каких-то их реальных воспоминаний, у многих они
в существенной степени перемешаны с тем, что они уже видели, слышали, и кроме
такой понятной аберрации памяти есть еще этот переходящий момент. Когда люди
писали дневники, они не знали, как положено, они писали так, - не все,
некоторые писали и тогда, как положено - как чувствовали. Не все писали то, что
они видели, чувствовали, переживали. Очень часто обсуждается в обществе, особенно среди тех,
кто интересуется историей войны, или среди историков, политических деятелей,
что вот сейчас откроются архивы, но они в относительной степени уже открыты, но
далеко не до конца откроются архивы, и мы все узнаем, как это все было в
действительности. Ничего подобного, доложу я вам, мы многое узнаем, но
далеко не все, потому что в архивах находятся документы, которые писали люди с
определенными целями, и там очень много любопытного и действительно до сих пор
не ставшего общепринятым достоянием. Но не нужно думать, что только архивы
дадут нам представление о подлинной истории. Без вот этого человеческого
взгляда, без личного опыта это бессмысленное дело, и дневники в этом плане
совершенно уникальный, незаменимый источник. Например, письма военного времени проходили цензуру, и
солдаты в основном знали, что они цензуруются, и, соответственно, письма — это
источник не той степени откровенности, каковыми являлись дневники. Ну, говоря, возвращаясь к дневнику Гельфанда, что еще
чрезвычайно любопытно, сохранился семейный архив, и он приобрел в Германии
фотоаппарат и активнейшим образом там снимал. И у нас есть просто уникальный
набор фотографий, часть вот из них дублирована в книге военные дневники
Гельфанда. Вот это его семья, это он с мамой и папой, это
Гельфанд-подросток, это его родственники по отцовской линии, которые были убиты
немцами в Ессентуках в 1942 году. То, что получило впоследствии название
«Холокост», было известно ему не понаслышке и задолго до того, как Красная армия
освободила Польшу и обнаружила нацистские лагеря уничтожения. У многих людей, особенно людей на Западе, «Холокост» —
это прежде всего Польша, это лагеря уничтожения. Действительно, в этих лагерях
была уничтожена значительная часть, относительно большая часть евреев, убитых в
период Второй мировой войны. В СССР была другая стратегия у нацистов. Евреев
расстреливали в местах, где они проживали. Недалеко от этих мест, иногда там не
сильно скрывались. И Гельфанд об этом узнает достаточно рано и об этом записывает. Так вот, это Владимир Гельфанд. Он закончил курсы младших
лейтенантов в апреле 1943 года. Ну а далее целая серия... Вот это он в Польше. Вот его немецкая девушка говорит,
что он похож на итальянца. Да, ведь он на самом деле чем-то похож на итальянца
из фильмов. А это его серия снимков, которые делал он и его товарищи
в Германии, в Берлине. Вот этот снимок. И далее, вот смотрите, это легко
узнаваемые Бранденбургские ворота. Это очень рано воздвигнутый уже тогда мемориал Советским
воинам, павшим при штурме Берлина. И он на том же самом месте находится. Это он
опять же со своими товарищами. Вот смотрите, как мог выглядеть советский офицер в то
время. Обратим внимание на прическу. Видите, наградили Гельфанда в конце войны уже за бои 1945
года орденом Красной звезды. А это вот он, видите, так сказать, чудит. Что-то
такое себе там примеряет. Усы наклеивает, еще там чего-то. В общем, молодой человек своего времени. Это его немецкие
подруги. Какая-то из них ему даже писала после окончания войны. Вот тоже серия этих чудачеств. Видите, вырядился в
цилиндр. И это виды послевоенного Берлина. Щецинский вокзал. Щецин теперь Польский, этого вокзала
уже нет. Он не существует. Разрушен. Черный рынок. Вот это Гельфанд со своим аппаратом. Но
тоже, видите, чудит. Ну, волосы у него натуральные, но вот такой, значит,
образ. Это обложка книги Владимир Гельфанд на фоне этих самых
Бранденбургских ворот. Тоже, видите, с такой небольшой бородкой. Вот такая
толстенная получилась книга — 750 страниц с подробнейшими комментариями. Существует и немало других дневников. Я говорил о
нескольких дневниках. Есть дневнички совсем короткие, но это не значит, что они
менее ценные. Очень впечатлил меня дневник Павла Элькинсона,
сержанта-артиллериста, прошедшего практически всю войну с 1942 года,
участвовавшего в Сталинградской битве, раненого и прочее. Он начал вести
дневник в 1944 году. Почему? Потому что они подошли к пруту границы Советского
Союза. И он записывает: "Вот мы идем за границу, я никогда, наверное,
больше за границей не буду, надо это все записать." И он побывал, действительно: в Румынии, Болгарии,
Югославии, Венгрии и Австрии. Вот такой, так сказать, туризм. Ну, туризм,
конечно, в кавычках, потому что он восторженно совершенно пишет, что в Болгарии,
Югославии так встречают, как не встречали ни в России, ни на Украине. Там
бросают еду, все время вино, все время там пьяные, он так пишет все очень
замечательно и так далее. А потом Болгарии же, собственно говоря, объявили
войну, но Болгария тут же совершила переворот и объявила войну Германии. В
Югославии встречали, конечно, освободителей. А потом в Венгрии были тяжелейшие бои при форсировании
Дуная, штурм Будапешта. И он записывает в один день, что сегодня погибло
четверо его товарищей. И невольно думаешь, когда же, и он записывает, «когда же
моя очередь?». То есть вот это ощущение, что ты можешь погибнуть в любой
момент, оно не притупляется со временем. И уже колоссальный его военный опыт в
данном случае ничего не значит. Ну, в общем, добрались они и до Австрии. Можно привести самые неожиданные сюжеты, встречающиеся в
дневниках: истории любви, юмор иногда, много чего любопытного. И действительно,
почти записки туриста. Конечно, все это в кавычках. Дневник майора Сафонова, он в Питере находится, в отделе
рукописей. Он был картографом. И его задача была нанести на карту достоверную
военную карту территории, которую Красная армия освобождала или оккупировала, в
зависимости от того, с кем воевала, так сказать, жертва нацистов или сторона
нацистского блока. И он побывал тоже в ряде стран, и особенно его поразила
Австрия, в которой он мечтал побывать. Он мечтал побывать в Вене, мечтал
увидеть Венский лес. Понятно почему, потому что это Штраус «Сказки Венского
леса» и прочее. И он действительно побывал в Вене, и он побывал в Венской
опере, которая была частично разрушена. Вповалку спали, значит, там лежали
солдаты, и он, там присел, и что-то там немножко сыграл на рояле и думал, ну, а
не исключено, что когда-нибудь, значит, вдруг сам Штраус на этом самом рояле
играл и так далее. И он подробно описал санки там разные и прочее, прочее. Вот
такие бывают тексты, но чаще, конечно, это такая военная тяжелая
повседневность. Ну, могу привести последнее, что я прочел в смысле
дневников. Это дневник Николая Гензлина, политработника. Потом политработников
сильно подсократили, и он заканчивал войну уже не в качестве политработника, а
в качестве артиллерийского офицера. Ну, он и до этого был в артиллерии, ну, был
там замполитом, комиссаром, потом замполитом, потом стал разведчиком в
артиллерийском дивизионе. Вот. Он описывает тяжелейшие бои на Северном фронте, сначала в
районе Таганрога и Ростова в 1942 году, тяжелый период отступления, и потом на
Северном Кавказе. Вот. Но он тоже дошел до Германии, да, тоже закончил войну в
Германии, но там, правда, в Германии записи такие отрывочные уже. Так что дневников не так мало, они весьма многообразны,
другие писавшие очень разные, но что-то их объединяет. Объединяет, конечно, это
вот такая склонность к рефлексии, я бы сказал, да, и в какой-то степени чувство
Истории, неосознанные сами, да, вот как-то зафиксировать то, что происходит, и
как-то у некоторых из них это отчетливо проявляется, оставить о себе память,
след. Опять же, люди не знают, что их ждет завтра. Иногда встречаются в дневниках сержанта Бориса Комского,
замечательный совершенно, он хранится в архиве Балаховича в Нью-Йорке. Он там
описывает, начал воевать на Курской дуге. Буквально накануне экзаменов в
офицерском военном училище их просто всех погрузили, отправили, значит, вот на
Курскую дугу, потому что были... Это Курский выступ, но вы знаете, что битва на
Курской дуге — крупнейшее сражение в мировой истории вообще, не только
крупнейшее сражение Второй мировой войны. Остро не хватало людей, и их, недоучившихся, бросили туда
воевать. Он тоже минометчик был, значит, сержантом. Присвоили им сержантов, а
не младших лейтенантов, и бросили туда. И за несколько дней буквально его рота
сначала превратилась из минометной в пехотную, потому что были разбиты минометы
огнем противника. А потом просто ее не стало, она была полностью уничтожена.
Ему повезло, потому что его ранили за день. За пару дней до этого он оказался в
госпитале, вот, а все остальные — нет. Вот такая история. Очень интересный тоже
дневник. Комский тоже молодой парень, когда начинается война ему
17 лет, но вот он целиком немножко другого психологического склада, чем
Владимир Гельфанд, гораздо более уверенный в себе. Закончил войну лейтенантом в
Германии. Но, к сожалению, его... Германскую часть дневника, его жена
впоследствии уничтожила, как он рассказывал. Так, как-то не понравилось ей то,
что он там записывал. Так что, вот такой беглый обзор дневников военного
времени. Источник беспрецедентный, я бы сказал так, и его значение для
понимания того, что мы называем иногда человеческим измерением войны, трудно
переоценить. Так что, читайте. Это, в общем, чрезвычайно увлекательные тексты.
И это почти всегда роман воспитания, я бы сказал так. Роман воспитания — это литературный жанр, потому что
видно, как человек меняется. Меняется, особенно если дневник ведется достаточно
продолжительное время, какими другими становятся авторы дневника к концу войны
или к окончанию для них боевых действий. Иногда автор выбывает, потому что его
ранят, и он уже не возвращается на фронт, ну и так далее. Ну, а теперь готов ответить на ваши вопросы, если таковые
имеются. Да, еще я, значит, не сказал одну важную вещь, учитывая,
что это все-таки семинар Еврейского музея, да, и Центра толерантности совместный,
я понимаю, с проектом «Прожито». Как вы заметили, почти все, о ком я говорил,
это евреи. Борис Сурис, Владимир Гельфанд, Борис Комский, Павел Элькинсон, Гинзбург,
Ирина Дунаевская, Елена Каган. Это не случайно. Это не случайно и не потому, что я
выбирал, например, Николай Генлин - он русский, которого я упоминал сегодня,
или Николай Яковлев, дневник которого я прочел недавно. Это здесь... Почему так? Ну, потому что евреи были самой образованной
советской нацией. Доля людей с высшим и средним образованием среди евреев, она
в разы, в десятки раз превышала долю многих народов СССР, и они практически все
были городскими жителями. Ну, почти все, подавляющее большинство было
городскими жителями, в основном жителями крупных городов. И многие были
студентами высших учебных заведений или их закончили. Это же называется precondition. Ну, чтобы вы представили себе, да, евреев с
высшим образованием в абсолютном исчислении, было больше, чем украинцев и в
7,5 раз больше, чем в Беларуси. В силу определённых причин, я не буду
углубляться в эту тему. Просто скажу, что шанс на то, что среди авторов
дневников будут советские евреи, был очень высок. И действительно, среди авторов много советских евреев.
Некоторые из них вообще никак не упоминают слово «еврей» в дневнике. Для
некоторых это очень важная тема. Некоторые страдают от антисемитизма, как Гельфанд,
например. Он даже записывает: «Почему я еврей? Почему меня угораздило родиться
евреем?» А Борис Сурис вообще совершенно не чувствует никакого
такого отношения. Он пишет: «Почему-то все меня любят? У меня хорошие
отношения, все меня любят». И действительно, судя по дневнику, одессит с
прекрасным чувством юмора и с художественными дарованиями пользовался
популярностью. Он служил в штабе переводчиком, в той части, где он служил. Так что все было очень по-разному, люди были очень
разные. То, что Еврейский музей избрал темой семинара дневники, я думаю, это
очень правильное решение. Военные и невоенные дневники дают представление об
истории советского еврейства, которое, опять-таки, оказывается не совсем таким,
как потом принято считать и понимать. Пожалуйста, вопросы. Да, у меня есть вопрос. Возможно, вы упоминали это, но
мне интересно, при каких обстоятельствах был найден именно этот дневник и как
обычно находят военные дневники. То есть их передают потомки или они как-то
случайно оказываются у вас? Дневник Гельфанда, как я уже сказал, хранился в семье.
Его автор сохранил и он пытался опубликоваться после войны. У него были статьи
в газетах, какие-то местные публикации, в сборнике вышли его воспоминания. Но,
конечно, публикация дневника была там невозможна. Он не вписывался ни в какие каноны,
хотя Гельфанд был абсолютно советским человеком. Он, например, писал о Сталине
в конце войны: «Сталин – солнце мое!». То есть он описывает всякие ужасы,
непотребства и так далее, с которыми он сталкивается, но никак это не связывает
с центральной властью. Более того, он пишет в военные газеты, дивизионные,
армейские, и он пишет тем языком, которым положено писать. В дневнике одно, в
тексте для стенгазеты – совершенно другое. Он знает, что писать надо именно
так. Это характерный пример двоемыслия, о котором он даже не задумывается. Он
понимает, что так и надо. Его попытки послевоенной публикации не увенчались
успехом. Всё это осталось в семье. Владимир Гельфанд скончался в 1983 году. Он 1923
года рождения. Его сын Виталий Владимирович вывез всё это, когда они уехали - эмигрировали
в Германию, вся семья. Там он посвятил себя расшифровке и публикации наследия
отца. Потом об этом узнала немецкая историк Элька Шерстяной. Это
она опубликовала немецкую часть дневника в переводе на немецкий. Это был
бестселлер в Германии, продано около 80 тысяч экземпляров. Это гигантская цифра
для военного дневника, тем более написанного иностранцем, а не немцем. Уже
потом Виталий Владимирович, как я уже рассказывал, связался со мной. В итоге он
всё это отсканировал. Оригинал дневника передан в Еврейский музей в Москве, где
сейчас хранится, как и неопубликованная переписка военного времени. Вот такая
история. Так получилось. Другие дневники, как я уже говорил, по моему опыту, по большей
части хранятся в семьях. К сожалению, многие выбрасывают эти ненужные бумажки.
Но в целом, хранятся в семьях. Да, пожалуйста. Вас не слышно. Микрофон включите. Здравствуйте. Простите. Спасибо большое за лекцию. Очень
интересно. У меня вопрос: моя коллега имеет семейный дневник своего деда
Попова. Часть фрагмента она уже опубликовала в книге в Тульской области,
пыталась анализировать его. И я тоже ознакомилась с этим дневником, вернее, с их
семьей. Мой брат и, получается, внуки расшифровали этот дневник. Он погиб в
1945 году, к сожалению, возвращаясь и так как-то не совсем бесславно, то есть
заболев и погибнув после войны. И практически всю войну он вёл эти записи. Они
хранились потом в семье. И меня заинтересовал тот аспект, что он не стеснялся
вообще вести этот дневник, и там достаточно резкие такие комментарии по
действиям непосредственно и руководства, причём самого высокого уровня,
относительно организации вот их военных действий. Скажите, пожалуйста,
насколько... Вообще, мне кажется, это не очень типичное проявление. Такие
элементы замалчивания всё-таки встречаются. Это было опасно, как вы правильно
рассказывали. Но вы знакомитесь с таким большим количеством этих военных
дневников. Как распространена вот эта практика такого критиканства и смелых
обращений относительно осуждения даже действий командования? Или это вообще
очень редко? Ну, вы знаете, встречается нередко. Люди не боялись,
потому что они были советские люди. И они считали, что они стремятся устранить
эти недостатки. Понимаете? Вот такая вот... Кстати, о военных дневниках у меня подробно написано. У
меня вышла в этом году книга. Называется «Люди на войне». В издательстве «Новое
литературное обозрение». И я эту книжку вам рекомендую почитать, если вы хотите
узнать, в том числе и о военных дневниках. Но там разнообразно, на самом деле.
Там значительная часть построена именно на дневниках. И этому посвящена
специальная глава. Там анализируется дневник Ольги Бергольц, в том числе и не
публиковавшаяся ранняя его часть. Это только что вышло. Третья-послевоенная
часть дневника. Очень много уделено именно такого рода документам. В том числе, что мы можем прочитать в дневниках и в
некоторых других источниках личного происхождения. Говоря простым языком, это о
взаимоотношении мужчин и женщин на войне. Которые были очень разные. Далеко не
всегда романтичные, романтические и прочее. Вот там у меня одна глава. Она
называется «Мужчина и женщина в Красной армии». А то, что касается истории Елены Коган-Ржевской,
обнаружения трупа Гитлера, она его зубы носила в коробке под мышкой некоторое
время. Это было, конечно, страшно секретно. Выяснилось, что снимок ещё не
подвезли, эти спецгруппы. Ей вручили коробку, бордовую коробку из-под дешёвой
бижутерии. И она её под мышкой носила, по меньшей мере, день или два. Ей было
велено не спускать с неё глаз. Представляете, ответственность, да? Зубы
Гитлера. И она страшно досадовала. 9 мая, День Победы, все праздновали. Она с
этой коробкой. Даже выпить невозможно тогда. Там последняя глава называется
«Зубы Гитлера». Посвящена этой истории. Внучка Елены Ржевской, переводчик Любовь Сум,
замечательный переводчик, показывала мне эти тетради и предоставила для
публикации в книжке некоторые фотографии из семейного архива. Чрезвычайно
интересно. В том числе там сохранилась схема зубов Гитлера, которую нарисовал
глава этой комиссии по исследованию трупов, обнаруженных в Рейхсканцелярии,
подполковник Шкарауской. И там же поправки. Альтернативная схема нарисована
ассистентом зубного врача Гитлера, Кэти Хойзеровой. Это сохранилось тоже в
личном архиве Елены Ржевской. Чрезвычайно интересно. Но много чего другого. Таким образом, это не необычно.
Это бывает. Судьбы могли быть разные. Иногда всё было нормально, а иногда людей
арестовывали. Например, Данил Фибих, журналист и писатель. Его кто-то из
сослуживцев, видимо, штудировал его дневник и вычитал там такую фразу, что
сейчас нет таких вот ораторов, как прежде, вот, Троцкий, например. Ну и всё.
Десять лет. За то, что Троцкого. Это 43-й год. И Троцкий уже покойник. И вообще
совершенно нейтральная фраза. Но это... Не кому-нибудь донесли, а Мехлису,
который был членом военного совета фронта, на котором сам Фибих служил в
армейской газете. Ну и арестован из фронта, отправлен в Лабин. Десять лет
отсидел от звонка до звонка. Совершенно советский человек. Даже более того, там
записывают рассказы о том, как крестьяне не больно-то помогают выбирающимся из
окружения красноармейцам. И он, в общем, дописывает, что кулачьё проклятое. Не
добили их там во время коллективизации тогда. Так что такой убеждённый. Я
цитирую по памяти. Не дословно, но суть такая. Когда кто-то там обменял...
Просили хлеба, часы есть - тогда поменяем. Поменял буханку хлеба на часы. А
часы тогда были колоссальной ценой. И так далее. То есть, если у него там есть какие-то негативные
замечания, то критические в том плане, что то, что нам нужно исправить. Но вот
фраза о Троцком погубила. Иногда я работаю не только с дневниками, с разного рода
источниками, в том числе с судебными материалами, например. И там встречается
среди материалов военных трибуналов «вел контрреволюционный дневник», «вел дневник
контрреволюционного содержания». Не часто, но встречается. Но это замечательная идея. То, что вы рассказываете о
дневниках. А дневник она собирается публиковать полностью где-то вообще? Да, она готовится. Она будет анализировать. То есть, как
социолог. Я порекомендую вашу книжку ей обязательно прочесть. Я думаю, будут
публикации. И она думает о том, чтоб передать этот дневник в дальнейшем, пока
она хочет сама поработать с этим. Мне кажется, может, даже передаст в
дальнейшем. Ну, понятно. В общем, если нужна будет какая-то помощь
или консультация, то... Я ей передам. Хорошо. Институт советской и постсоветской истории на сайте
Высшей школы экономики можно найти. Ну, или меня просто найти. Дневник очень интересный. Уникальные какие-то вещи. Я с
удовольствием прочитала. Было сложно его именно воссоздать. Почерк такой, как
вы говорите, на чем попало писали и в каких угодно условиях. И они несколько
лет потратили, все восстанавливая, пытаясь. И приступили к анализу. Ну, это... Расшифровать это... Это самая маленькая
проблема. Конечно, конечно. Во всяком случае для историков профессиональных, которые
работают там. Нет, они не историки, не профессиональные, просто в
семье, внуки. Если будет нужна какая-то консультация или помощь, то
пожалуйста. Хорошо, я ей передам. Спасибо. Пожалуйста, есть еще какие вопросы? Вы упоминали про контрреволюционные дневники. А вы могли
привести каких-нибудь авторов, которых можно было бы прочесть? Нет, ну секундочку. Это не я говорю про
контрреволюционные дневники. Это исследователи квалифицировали трибунал как
контрреволюционный. Это совсем не означает, что там что-то контрреволюционное.
Например, то, что Троцкий был прекрасным оратором, это, что называется, каждая
собака знала в Советском Союзе и за его пределами. И сама по себе эта запись, она…
это уж нравы сталинского времени, особенно конкретного Льва Мехлиса в прошлом,
начальника главного политического управления, то есть главного комиссара
Красной армии, были такие. Тот же самый дневник Гельфанда можно было совершенно
спокойно как контрреволюционный квалифицировать. Контрреволюционный, такая
формула, там была статья 58, 58-я статья о контрреволюционных преступлениях,
государственных преступлениях. Там много было пунктов разного рода, в том числе
наиболее популярных, популярных в кавычках, в том числе обсуждённых 58-10. Это
антисоветская агитация и пропаганда. И огромное большинство того, что я видел в делах военного
времени, это людей за слова сажали. Что там за дневник?! Не то сказал.
Например, клеветал на советскую печать. Основание для ареста. Клеветал на
сообщение Совинформбюро. Клеветал на колхозный строй. Ну, если перевести на
русский язык, то не верили люди тому, что пишет печать, не верили сообщениям
советским. И правильно делали, потому что там в сплошь и рядом шли сообщения о
том, сколько уничтожено там солдат и офицеров противника, военной техники и
прочее. При этом почему-то всё новые и новые территории сдавались. Сдавались
противнику. И там в дневниках есть замечательный Михаил Пришвин. Я
уже не говорю о дневнике военного времени, но для тех, кто военнослужащие,
дневники ведь вели военнослужащие, есть замечательные дневники Михаила
Пришвина, Всеволода Иванова, писателя. И они в одном тушу, по-моему, это у
Пришвина, что никто радио не может слушать, настолько оно действует просто
раздражающе, угнетающе, как угодно. И прочее. Но есть подобные записи,
например, Георгий Славгородский. Я ещё поучаствовал в издании дневника Георгия
Славгородского, посмертно изданного через много лет после его гибели, он погиб
в 1945 году, к сожалению, прошёл всю войну и погиб на территории Польши. Он
записывает, например, слова одного из своих сослуживцев по поводу публикации светской
печати. «Всё брехня. Всё цэ брехня». Вот
за эту фразу можно было 58-ю записать. И тот же самый Славгородский в дневнике
он что-то такое записал, но тоже можно было бы его как-то квалифицировать с
контрреволюционером. Поэтому это вопрос структуры.
Это в подавляющем большинстве, почти все, это были советские... Ну, там есть
действительно дневники некоторые критичные к власти как таковой. Их очень мало,
но есть такие, встречаются. Но в основном это пишут советские люди, которые
недовольны тем, что война ведётся как-то не так по их мнению. Или Борис Комский, абсолютно
такой советский патриот, комсорг и так далее. Вот он написал, что как ему
рассказали, как погибла его рота, остатки его роты. Что пьяный капитан Фронель повёл
роту в лобовую атаку. Запросто могли пришить клевету на Красную армию. А это,
конечно, вряд ли можно сомневаться, что то, что он записал, так оно и было. Это
ему рассказал один из немногих выживших после этой вот страшной атаки, когда
этот самый пьяный, так сказать, маленький военачальник повёл роту на поле битвы.
Так что вот таким образом. И это как раз то, о чём я говорю,
представьте, именно и только в дневниках. Об этом не писали (в письмах) домой.
А если кто-то находился, кто писал, следующего письма вряд ли дождались бы его
родичи дома там и так далее. Вот, пожалуйста, если еще есть
вопросы? Олег Витальевич, да. Спасибо большое за лекцию, спасибо
большое за книгу вышедшую. Я прошу прощения за свой экран, у меня проблемы с
камерой. У меня на самом деле много вопросов, я постараюсь там... Я хотел
спросить, проводились ли исследования дневников вот, собственно, Второй мировой
войны, да, Великой Отечественной, и, соответственно, дневников, понятно, что их
было меньше, но они тоже были, дневников Первой мировой 14-18 годов, российские
дневники, я имею в виду, и, соответственно, были ли сравнительные исследования
дневников советских и дневников, которые велись опять-таки, там, в германской
армии, я не знаю, в германском обществе, или в войсках союзников. Вот, и, извините, ещё один такой вопрос, но он уже такой
скорее общефилософский, наверное. Вы, как человек, прочитавший очень много
дневников, мне интересно ваше мнение о военных. Вот этот момент с рефлексией и,
собственно, рефлексией не только, понятно, над самим собой, самими переживаниями,
но и над окружающими людьми. Вам чаще попадалось рассуждение о том, что война
портит людей? Или же скорее, там, война, не знаю, позволяет что-то, ну, как-то
наоборот... Выявить лучшее у человека. Да-да-да. Вот я понимаю, что там будет и такое, и такое.
Что чаще встречается? Мне практически не встречалось в дневниках, что война
что-то такое лучшее в человеке выявляет. И я хочу сказать, что это мифологема.
С моей точки зрения, это абсолютный миф. Война – это страшное дело. Так она
никого не делает лучше. Справедливая война или несправедливая, на войне
убивают. И на войне жертвуют жизни других людей. Я прошу прощения, Олег Витальевич, я, наверное, плохо
сформулировал вопрос. Меня, наверное, немножко другое интересует. Смотрите,
понятно, что это мифологема. Там, как бы, да, героическая сторона... То есть, есть ли об этом в дневниках? Вы это имеете в
виду? Нет, нет. Нет, не это. Я имею в виду момент, скажем,
когда автор дневника фиксирует некое своё удивление от того, что он ожидал, что
люди будут вести себя одним образом, а они ведут себя другим образом.
Собственно, там дневник Гельфанда о том, что он советский патриот, и он
сталкивается, собственно, с реальностью, которая не совпадает с его
представлением о войне, об армии. И понятно, что он будет поражён, как это там,
не знаю, в армии воруют, в армии бьют. Нету никакого интернационализма.
Понятно, что он фиксирует своё столкновение с тем, что он ждёт одного, а
встречает более худшее поведение. Но я имею в виду, что наверняка же были и
случаи, когда люди ожидали, уже имея военный опыт, уже имея, что война – это
ужас, тем не менее сталкивались с какими-то неожиданными проявлениями
человечности. Насколько это часто встречается в дневниках? Наверное, это я имею
в виду. Ну, не слишком. Там встречаются записи тех или иных
воинских достижений того или иного военнослужащего. Но вот это рассуждение о
том, что… встречаются записи, люди обретают друзей иногда на войне, и очень
нежно к ним относятся. Там вообще дружба на войне – дело такое. Так, чтобы часто
встречающаяся, во-первых, колоссальная текучка была, очень высокий уровень
потерь и много чего другого. Там такого, что… а вот смотрите, какие там люди
оказались человечные, ну, крайне редко. Крайне редко. Отвечая на другие ваши вопросы, можно ответить одним
словом — нет. Значит, нет сравнительных исследований дневников Первой и Второй
мировой войны, насколько мне известно во всяком случае. Так, кто-то такое в
дневниках, это сравнивал письма из Сталинграда советские и немецкие. Это Юшин
Хельберт была об этом статья. Так, дневников не припомню, честно говоря, чтобы
были такие исследования сравнительные. Вообще таких специальных исследований о дневниках
военного времени я не припомню, чтобы... Ну, была, условно говоря, монография
какая-то. Есть на эту тему рассуждения в тех или иных статьях, предваряющих
нередко публикацию этих самых дневников. Но, по-моему, не припомню. Не могу вот так вот рекомендовать какую-то конкретную
книгу или статью на эту тему, ну разве что за исключением своей собственной,
да, главы моей самой книжки «Люди на войне». Спасибо большое. Коллеги, ещё вопросы? Олег Витальевич, если позволите, у меня есть пара
вопросов. Первый. Известны случаи, когда дневники советских военнослужащих
попадали в руки собственно немцев и переводились на немецкий язык. Для чего это
делалось и как они использовались потом? И известно ли было, насколько широко
об этом было известно в советской армии и могло ли это влиять вообще на ведение
дневника? Ну для чего это делалось, понятно. Для того, чтобы там
какую-то информацию извлечь. Вот смотрите, ведь переводил дневник переводчик,
да? Пользователем был соответствующий военачальник того или иного ранга. Ему
нужно было отдать материал. Потом у немцев надо понимать, что у них работала
пропагандистская машина и довольно эффективно работала. Там была такая «Винета»,
у них специальная служба пропагандистская и так далее. Им нужно было, они
хотели понять, что из себя представляют советские солдаты и как, на каком языке
с ними говорить. В этом плане дневники, конечно, - у них была масса
пленных, с которыми можно было общаться. Но дневник это тоже был такой, вполне
себе интересный материал для составления представления о советских
военнослужащих. И иногда это использовалось в пропагандистских целях, то есть
какие-то фрагменты публиковались. Была обратная сторона. У немцев как раз много людей дневники
писали. Все это велось там, поощрялись, не запрещалось. И иногда эти дневники
захватывали, как правило, на трупах убитых. И это использовалось в процессе
пропаганды. В частности, Л. неоднократно их цитировал - дневники немецких
солдат. Спасибо вам. И второй вопрос. Если говорить об этом
элементе, как положено в дневниках советских солдат, существовали ли образцы,
то есть распространены ли были в периодической печати и в литературе тексты в
дневниковой форме в военные годы? Нет, не встречалось. Ведение дневников совсем не
поощрялось. Считалось, что их запрещено вести. Их на самом деле запрещали вести
в подавляющем большинстве вероятных случаев. Например, Борис Комский после
войны рассказывал, почему так вот вел дневник, хотя это запрещено: «Я не знал.
Если бы знал, так я бы не вел». Гельфанд, он читал иногда свои эти самые записи товарищам,
но обычно это ничего, кроме издевательств, не вызывало. Однажды вдруг, там такой был момент, вдруг вот резко
меняется стиль. И он пишет, о том, как здорово, значит, вот у нас тут теперь
политрук, который мне там объясняет, что надо делать, как вести дневник. Что я
должен писать о боевых делах нашей части, о том, как политрук проводит работу и
все такое прочее. И какой-то текст какой-то такой странный, до нелепости.
Потом через несколько дней появляется: «наконец-то я избавился от политрука!»,
который с ним в одной землянке жил. «Теперь я могу писать вообще все, что хочу»
- в таком духе. Так что вот такие были наставления. Он не запрещал ему
вести дневник, но объяснял, как и что он должен там писать. Но он, имея под
боком этого политрука, писал. Чтобы чем-то ему, если не угодить, то, во всяком
случае, не вызвать как-то негативную реакцию. Потом он стал писать. И опять все
такое, что... Потом он тогда пишет, «какие глупости я писал раньше в дневнике»,
в таком духе. Ну, потом это прошло, и он вернулся к этим самым глупостям, в кавычках, конечно, которые для нас представляют наибольший интерес. |
||
 |
 |
 |
||
© Gorskie
© Олег Будницкий
© Еврейский музей и центр толерантности
| Neue Quellen zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs: Tagebücher |
||
| |
||
|
Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen! Dieses Tagebuch wird im Archiv des Jüdischen Museums und des Zentrums für Toleranz aufbewahrt. Bei unserem nächsten Treffen werden wir es gemeinsam lesen und diskutieren. Heute jedoch hören wir einen Vortrag über die Besonderheiten des Genres „Kriegstagebuch“ sowie über die spezifischen Bedingungen, unter denen solche Tagebücher in den 1940er-Jahren, insbesondere unter sowjetischen Kriegsbedingungen, verfasst wurden. Unser heutiger Referent bedarf keiner ausführlichen Vorstellung: – Vielen Dank, Georgi. Wie ist das Format des Vortrags? Wie lange soll ich sprechen? Ungefähr eine Stunde. – Eine Stunde… Ich hoffe, die Zuhörer sind danach nicht völlig erschöpft. Ich wünsche mir nur, dass es nicht zu einseitig wird – besonders im „schwarzen Quadrat“ (Anm.: Anspielung auf ausgeschaltete Kameras in Online-Meetings). Es gibt da einige Rezensionen. Manchmal ist es einfach angenehmer, Gesichter zu sehen. Ich fände es besser, wenn der Vortrag nicht nur einseitig gesendet würde, sondern auch Rückmeldungen möglich wären. Ich meine: Wenn es während des Vortrags Fragen gibt – Georgi, du übernimmst die Moderation, oder? Fragen können auch auf Englisch gestellt werden, entweder mündlich für alle hörbar oder schriftlich im Chat – du wirst sie dann vorlesen. Ich halte das für eine produktive Form, gerade im Online-Format. Das wäre also Punkt eins. Im zweiten Teil des Vortrags soll es konkret um Kriegstagebücher gehen: Wer hat sie geschrieben, unter welchen Umständen, wer waren diese Menschen und aus welchen Gründen haben sie Tagebuch geführt? Diese Fragen unterscheiden sich im Grunde nicht von jenen, die Historiker oder Forscherinnen stellen, die sich mit Ego-Dokumenten als historischen Quellen beschäftigen. Der wesentliche Unterschied ist jedoch: Es herrschte Krieg – und das ist gewiss keine günstige Zeit, um ein Tagebuch zu führen. Schon allein deshalb, weil während des Krieges geschossen wird, bombardiert wird – kurz: weil das Schreiben technisch schwierig und gefährlich war. Man könnte also fragen: Wer hatte unter diesen Umständen überhaupt die Möglichkeit, ein Tagebuch zu führen? Wie viele solcher Kriegstagebücher gibt es? Und so ließen sich noch viele weitere Fragen anschließen. Eine Frage taucht dabei immer wieder auf, die ich gleich zu Beginn klären möchte: Zumindest haben Historiker bislang keinen solchen Erlass gefunden. Es gab allgemeine Vorschriften zur Geheimhaltung und entsprechende Sicherheitsbedenken. Unter diesen Bedingungen war das Schreiben von Tagebüchern tatsächlich nicht ratsam – vor allem, wenn sie dem Feind in die Hände fielen. Und solche Fälle hat es gegeben. Selbst wenn keine militärischen Angaben über Standorte oder Pläne enthalten waren – was in Kriegstagebüchern ohnehin selten der Fall ist –, ließen sich dennoch Rückschlüsse auf Moral, Versorgungslage oder inneren Zustand der Roten Armee ziehen. Für den Feind waren solche Informationen unter Umständen sehr wertvoll. Daher wurden viele, die Tagebuch führten, gebeten – oder mit Nachdruck dazu aufgefordert –, es zu unterlassen. Ein Beispiel: Zinovy Chernilovsky, ein Jurist, der während des Krieges als stellvertretender Politoffizier einer Maschinengewehrkompanie diente, erinnerte sich daran, wie sein Kommandeur ihm das Tagebuch wegnahm, es in den Ofen einer Baracke warf und sagte, dass „Genosse Stalin befohlen habe, diejenigen zu erschießen, die Tagebuch führen“. – Natürlich hat Stalin nie eine solche Anweisung gegeben, aber die Reaktion des Kommandeurs zeigt deutlich, wie gefährlich Tagebuchschreiben in seinem Verständnis war. Andererseits gibt es auch gegenteilige Beispiele: Es gab Soldaten, die offen Tagebuch führten, daraus sogar Kameraden vorlasen – ohne Konsequenzen. Einheitlich geregelt war das nicht. Die Praxis wurde zwar zumeist nicht gefördert, aber auch nicht immer sanktioniert. In vielen Fällen blieb das Tagebuchschreiben unbehelligt. Manchmal kam es zu Gesprächen zwischen Tagebuchschreibenden und Angehörigen der sowjetischen Sonderabteilungen. Ein weniger bekannter, aber besonders interessanter Fall ist Elena Kagan, die als Dolmetscherin der SMERSH-Sondergruppe diente. Diese Einheit hatte den Auftrag, Adolf Hitler oder seine Überreste aufzuspüren. Kagan führte während des gesamten Krieges Notizen – was angesichts der Geheimhaltungskultur durchaus bemerkenswert ist. Bekannt wurde sie später unter dem Namen Elena Rzhevskaja, ein literarisches Pseudonym, das sich von ihrem Geburtsnamen ableitete. Vor dem Krieg hatte sie am Literaturinstitut studiert und wollte Schriftstellerin werden – ein Ziel, das sie später verwirklichte. Während des Krieges machte sie Aufzeichnungen, aus denen später literarisch bearbeitete Kriegstagebücher entstanden. Als 1945 in Berlin die mutmaßlichen Überreste Hitlers gefunden und untersucht wurden, war sie anwesend. Die Autopsie wurde von Anna Marans durchgeführt – Oberstleutnant im Sanitätsdienst und stellvertretende Chefpathologin der 1. Weißrussischen Front. Die Leiche war schwer verbrannt, aber der Kiefer – und damit die Zähne – waren intakt und ermöglichten eine eindeutige Identifizierung. Elena Kagan hielt diese Ereignisse schriftlich fest. Doch unmittelbar danach wurde ihr mitgeteilt, dass es sich bei dem Fund um ein striktes Staatsgeheimnis handele. Es ist eine der vielen Paradoxien sowjetischer Geschichtspolitik, dass die Entdeckung von Hitlers Leiche nicht öffentlich bekannt gegeben wurde – obwohl im Westen die Informationen über Hitlers Suizid längst kursierten. Zeugen aus Berlin hatten bereits berichtet. Es war zwar bekannt, dass Hitler tot war, aber nicht, dass seine Leiche gefunden worden war. Möglicherweise sollte – so eine Hypothese – durch gezielte Unklarheit die Vorstellung aufrechterhalten werden, Hitler könnte noch leben, um eine gewisse psychologische Spannung zu erzeugen. Sicher sagen lässt sich das jedoch nicht. Kagan machte sich dennoch Notizen – allerdings schattierte sie die entsprechenden Passagen zum Thema „Zähne“ aus. Sie vernichtete ihr Notizbuch nicht, aber sie verwahrte es zuhause und sprach zwei Jahrzehnte lang mit niemandem darüber. Erst zwanzig Jahre nach Kriegsende veröffentlichte sie ihr Buch „Berlin, Mai 1945. Aufzeichnungen einer Militärdolmetscherin“, in dem sie erstmals die Details der Ereignisse publik machte. Der Titel suggeriert einen dokumentarischen Charakter, doch es handelt sich klar um einen literarisch bearbeiteten Text auf Grundlage des Tagebuchs. Zurück zur grundsätzlichen Frage: Wer führte während des Krieges Tagebuch – und warum? Es waren zumeist gebildete Personen, oft mit mindestens abgeschlossener Sekundarschulbildung. Das entsprach damals bereits einem hohen Bildungsniveau. Die Vorstellung, die Kulturrevolution der 1930er-Jahre habe die sowjetische Bevölkerung umfassend gebildet, ist weitgehend ein Mythos. Vor dem Krieg war der Bildungsstand der Bevölkerung noch vergleichsweise niedrig. Wenn ich mich recht erinnere – und stütze mich hier auf statistische Angaben – gab es in der Vorkriegszeit auf 1.000 Erwachsene etwa 77 Personen mit Sekundarschulbildung und nur 6 bis 7 Personen mit Hochschulabschluss. Die Mehrheit der Bevölkerung war ländlich geprägt und verfügte über wenig formale Bildung. Nach der Volkszählung von 1939 lebten etwa zwei Drittel der sowjetischen Bevölkerung auf dem Land. Diejenigen, die überhaupt auf die Idee kamen, ein Tagebuch zu führen, gehörten also einer kleinen, urbanen, gebildeten Minderheit an – und selbst in dieser war das Tagebuchschreiben nicht selbstverständlich. Es wurde häufig nicht gern gesehen, teilweise auch als riskant betrachtet. Bis vor etwa zwanzig Jahren war deshalb die verbreitete Meinung in der Forschung: Kriegstagebücher aus der Roten Armee sind eine absolute Rarität, ein Ausnahmephänomen. Und das ist auch heute noch in gewissem Maße zutreffend – wenn man sich die schiere Größe der sowjetischen Streitkräfte vor Augen führt. Wie groß war die Rote Armee? Vor diesem Hintergrund ist klar: Die erhaltenen Tagebücher stellen nur einen verschwindend geringen Bruchteil dar – und sind entsprechend kostbare Quellen. Anfangs sprach man von einigen Dutzend Kriegstagebüchern. Inzwischen ist klar geworden, dass es Hunderte sind – und mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar Tausende. Es besteht berechtigte Hoffnung, dass viele von ihnen erhalten geblieben sind, vor allem in privaten Hausarchiven. Manche wurden möglicherweise nicht von den Sicherheitsdiensten vernichtet, obwohl in mehreren Fällen das Führen eines Tagebuchs zur Verhaftung führte – etwa, wenn jemand durch Denunziation auffiel oder belastendes Material aufgezeichnet hatte. Nur in seltenen Fällen gelangten solche Tagebücher in staatliche Archive. In der Regel wurden sie jedoch im familiären Umfeld aufbewahrt. In meiner Radiosendung Der Preis des Sieges beim Sender Echo Moskwy habe ich mehrfach die Hörerinnen und Hörer aufgerufen, mir Kriegstagebücher oder andere zeitgenössische Dokumente aus ihren Hausarchiven zur Verfügung zu stellen – nicht Erinnerungen oder Memoiren, die Jahrzehnte später verfasst wurden, sondern authentische Aufzeichnungen aus jener Zeit: geschrieben in der Unsicherheit, ob es überhaupt ein Morgen geben würde. Zu meiner Überraschung meldeten sich viele Menschen. Sie schickten Scans und teilweise sogar Originaltagebücher – aus Nowosibirsk, Moskau, Stuttgart oder gar New York. Einige Texte waren allerdings nachträglich umgeschrieben worden – entweder von den Autorinnen und Autoren selbst oder von deren Angehörigen. In solchen Fällen zeigt sich oft eine erkennbare Spur der Bearbeitung. Wenn das Original nicht erhalten ist, muss der überlieferte Text mit höchster Vorsicht und Quellenkritik behandelt werden. So erhielt ich zum Beispiel ein sehr interessantes Tagebuch mit dem Titel „Die Krankenschwester“. In den meisten Teilen war klar ersichtlich, dass die Aufzeichnungen zeitnah verfasst wurden. Doch plötzlich fand sich ein Bezug auf den Film „Die Kuban-Kosaken“, der bekanntlich erst nach dem Krieg produziert wurde. Die Autorin hatte das Tagebuch offenbar später überarbeitet. Ihre Tochter wiederum weigerte sich hartnäckig, das Original herauszugeben: „Meine Mutter wollte es so – ich muss diese Version bewahren.“ Solche Fälle kommen vor. Sie bedeuten nicht zwangsläufig, dass ein überarbeitetes Tagebuch unbrauchbar ist – aber sie erfordern kritische Prüfung. Häufig lagen ursprünglich nur lose Zettel vor, die später zusammengefasst oder abgetippt wurden. Wer waren die Menschen, die Tagebücher führten – und warum taten sie es? Tagebuchschreiben an der Front war fast unmöglich – aber es kam vor. In seltenen Fällen schrieben sogar Menschen während aktiver Gefechtssituationen. Meist handelte es sich um Offiziere, Dolmetscher, Stabsmitarbeiter, Politoffiziere oder Militärjournalisten. Letztere durften offiziell mitschreiben. Es gibt auch zahlreiche Beispiele von Personen, die keine literarische Ausbildung hatten, aber davon träumten, Schriftsteller zu werden. Ein Beispiel ist Boris Suris aus Odessa. Er notierte mit ironischem Unterton: „Ich will einen r-Roman schreiben“ – das Wort „Roman“ schrieb er demonstrativ mit drei „r“. Trotz dieses ironischen Tons führte er präzise Listen der Deutschen, die er als Dolmetscher verhört hatte – in der Absicht, sie später als Figuren in seiner geplanten Literatur zu verwenden. Zwar veröffentlichte er letztlich keinen Roman, doch sein Tagebuch ist erhalten und wurde in Moskau veröffentlicht. Es ist bemerkenswert reichhaltig und aufschlussreich, obwohl einige Stellen offenbar ausgelassen wurden. Elena Kagan, später bekannt als Elena Rzhevskaja, war ein weiteres Beispiel. Sie hatte ursprünglich Schriftstellerin werden wollen – und wurde es. Auch Irina Dunajewskaja schrieb im Krieg: „Vielleicht werde ich, ein einfaches Mädchen, eines Tages ein Buch über den Krieg schreiben.“ In Wirklichkeit studierte sie an der Orientalischen Fakultät der Universität Leningrad, beherrschte Deutsch – und war alles andere als ungebildet. Nach dem Krieg wurde Irina Dunajewskaja eine relativ bekannte Orientalistin. Sie spezialisierte sich auf den Alten Orient und auf religiöse Sekten. Ihre akademische Laufbahn war ungewöhnlich: Zunächst schrieb sie sich in die russische Abteilung ein, wechselte später in die Abteilung für ausländische Philologie und schließlich in die Orientalistik. In einer ihrer Notizen beklagte sie, dass sie frühe Texte des Tabarian nur in Übersetzung lesen konnte, da das Original unzugänglich war. Und doch sah sie sich selbst als „ein einfaches Mädchen“. Ein weiteres Beispiel für jemanden, der sich selbst als einfach betrachtete, aber Großes hinterließ, war Wladimir Gelfand. Ich möchte Ihnen im Folgenden sein Tagebuch vorstellen – mit besonderem Fokus auf Inhalt, Umfang und Entstehungsgeschichte. Gemeinsam mit Tatjana Lwowowna Woronina und Irina Machalowa habe ich dieses Tagebuch ediert und mit umfangreichen Kommentaren und Illustrationen veröffentlicht. Der Weg zur Veröffentlichung war jedoch nicht geradlinig. Ich stieß zunächst online auf verschiedene, meist laienhafte Veröffentlichungen des Tagebuchs. Es war schwer, sie als solche zu bezeichnen, denn die Materialien waren heterogen: Neben Tagebuchauszügen fanden sich Charakterisierungen, Briefe, Erklärungen – teils mit offensichtlichen Textverwechslungen. In einer Radiosendung zum Thema Kriegstagebücher erwähnte ich dieses Werk und beschrieb es als in zweifacher Hinsicht außergewöhnlich: Zum einen wegen seines enormen Umfangs – es beginnt im Sommer 1941 und reicht bis in den Herbst 1946, als Gelfand, inzwischen Offizier der Besatzungsmacht in Deutschland, demobilisiert wird und sich auf dem Heimweg nach Dnipropetrowsk befindet. Zum anderen aufgrund seiner schonungslosen Offenheit. Nach der Sendung meldete sich Gelfands Sohn, Witali Wladimirowitsch Gelfand, aus Berlin beim Radiosender und erhielt meine Kontaktdaten. Er erklärte, er wolle das Tagebuch in Russland veröffentlichen. Zu diesem Zeitpunkt war das Werk bereits in Teilen ins Deutsche und Schwedische übersetzt worden – allerdings nur jene Abschnitte, die sich auf Gelfands Zeit in Deutschland bezogen. Schließlich reiste ich nach Berlin, um Einsicht in das Original zu nehmen. Was ich dort vorfand, war eine Kiste voller Notizbücher, Einzelblätter, beschriebenes Papier aller Art – das Rohmaterial für das Tagebuch. In Kriegszeiten war Papier ein rares Gut, doch Gelfand schrieb auf allem, was sich finden ließ. Die Eintragungen beginnen 1941, und einige Fragmente sind auf Rückseiten von Seiten mit Drucken z. B. aus einem Buch über Tsereteli verfasst. Neben den Texten fanden sich Abschriften – die Grundlage für unsere spätere Edition. Was macht dieses Tagebuch so besonders? Erstens: der Tonfall der Naivität und Direktheit. Gelfand war beim Kriegseintritt kaum 18 Jahre alt, diente zunächst als Elektriker im nordkaukasischen Essentuki und war ein halber Junge, noch kaum geformt. Seine ersten Einträge zum Kriegsausbruch sind fast banal: „Übrigens, der Krieg hat begonnen. Aber jetzt muss ich meine Urlaubspläne ändern.“ Zweitens: die radikale Offenheit. Zwar betonen viele Tagebuchschreibende, sie würden nur für sich selbst schreiben, aber fast immer ist ein implizierter künftiger Leser mitgedacht. Nicht so bei Gelfand. Er schildert auch äußerst kompromittierende Szenen aus seinem eigenen Verhalten, wie sie ein älterer Mensch wohl kaum notieren würde. Drittens: die Realitätsnähe und Unmittelbarkeit. Gelfand gehörte einer aktiven Kampfeinheit an, war Mörserschütze – eine Funktion mit besonders hoher Gefährdung. Er schrieb auch während des Beschusses und der Gefechte. In einem besonders eindrucksvollen Moment beschreibt er, wie eine Granate in einen Laufgraben einschlägt: Alle Kameraden dort sterben – er überlebt durch Zufall. Während des gesamten Krieges wurde er nur einmal verletzt – eine Fingerverletzung, die sich zu einer schweren Infektion entwickelte. Er kam ins Lazarett, verbrachte Wochen in Behandlung, doch angesichts der Intensität der Gefechte, z. B. im Herbst 1943 in der Ukraine, war dies fast ein Wunder. An anderer Stelle beschreibt er, wie er sich mit einer Sanitätsoffizierin unterhält, die ihm offenbar gefällt. Als der Beschuss beginnt, bietet er ihr ritterlich seinen eigenen Graben an – er ist tiefer und sicherer. Die Frau nimmt das Angebot an. Kurz darauf schlägt eine Granate genau in diesen Graben ein – sie wird zersprengt. Gelfand beschreibt, wie nur noch einzelne Körperteile bleiben. Er organisiert eine Beerdigung, eine Nottafel, notiert ihren Namen. Es ist diese Mischung aus Jugend, Aufrichtigkeit, Grauen, Alltäglichkeit und Trauer, die das Tagebuch von Wladimir Gelfand zu einem einzigartigen Dokument macht. Was an Gelfands Tagebuch besonders wichtig ist – neben seinen erschütternden Beobachtungen – ist der Umstand, dass es einen authentischen, überprüfbaren Krieg schildert. Dank öffentlich zugänglicher Datenbanken des russischen Verteidigungsministeriums, wie etwa „Memorial“, lassen sich einzelne Angaben kontrollieren. Gibt man den Namen jenes Mädchens ein, das in einem seiner Einträge erwähnt wird, findet man in der Tat einen entsprechenden Todesvermerk für genau das genannte Datum. Auch in der Datenbank „Podvig Naroda“, in der die Auszeichnungslisten sowjetischer Kriegsteilnehmer gesammelt sind, lassen sich zusätzliche Informationen nachprüfen. Kennzeichnend für dieses Tagebuch ist zudem, dass Gelfand nichts beschönigt. Er trat als einfacher Gefreiter in die Armee ein und wurde während der Katastrophe von Charkiw im Mai 1942 Unteroffizier. Die Rote Armee hatte damals versucht, Charkiw zurückzuerobern – doch die Offensive schlug fehl, da die deutsche Gegenwehr unterschätzt wurde. Es kam zu einer Einkesselung, massiven Verlusten und zum Rückzug über den Don bis nach Stalingrad. Gelfand schildert diese dramatische Phase ohne jede Glättung oder Auslassung – im Gegensatz zu vielen Memoirenschreibern, die belastende Episoden gerne überspringen. Der wohl interessanteste Teil seines Tagebuchs betrifft jedoch seine Zeit in Deutschland. Er beschreibt offen und detailliert die Beziehungen zu deutschen Frauen, den Umgang der sowjetischen Soldaten mit der lokalen Bevölkerung und reflektiert darüber auch selbstkritisch. So berichtet er in einem Eintrag vom 15. Mai 1945, wie er zwei junge deutsche Frauen nahe der Kantine trifft. Diese unterhalten sich über ihn, vergleichen ihn mit einem Italiener, machen ihm Komplimente. Als er sie später mit Gebäck versorgt, wird klar, dass ihre Mutter die Begegnung nicht nur duldete, sondern möglicherweise arrangierte. Gelfand, der bis dahin jungfräulich geblieben war, reflektiert sein inneres Ringen. Zwar bietet sich ihm mehrfach die Gelegenheit, doch erst spät, mit einer deutschen Frau, verliert er seine Unschuld. Dabei ist er hin- und hergerissen zwischen Neugier, Angst und moralischem Unbehagen. Bemerkenswert ist auch, wie sehr er ein belesener junger Mann war. Bei der Inventarisierung einer deutschen Bibliothek – die zur Wiedergutmachung in die UdSSR gebracht werden sollte – macht er sich Sorgen: Wie soll man in Deutschland den Sozialismus aufbauen, wenn man ihnen die Bücher wegnimmt? In einem medizinischen Werk, das er mehr oder weniger verstand, liest er, dass sich bei ausbleibender sexueller Erfahrung gesundheitliche Komplikationen einstellen könnten. Kurz darauf spricht er eine Frau an und bittet sie, mit ihm zu schlafen. Sie stimmt zu – nicht aus Zuneigung, sondern offenbar aus Angst oder Anpassung, denn ein sowjetischer Offizier mit Waffe war schwerlich abzulehnen. Später schildert Gelfand, wie er sich auf dem Schwarzmarkt bewegt, weitere Affären hat, schließlich an Tripper (Gonorrhö) erkrankt. Auch seine medizinische Behandlung beschreibt er offen – eine brutale und schmerzhafte Prozedur. Er selbst schreibt, solche Texte sollten Jugendlichen gezeigt werden, damit sie verstehen, wie gewisse Abenteuer enden können. Aus all dem wird deutlich, welch einzigartigen Wert Tagebücher für die historische Forschung besitzen. Viele Veteranen berichten heute nicht mehr aus der unmittelbaren Erinnerung, sondern sagen das, was sie für „richtig“ halten. Ihre Aussagen sind oft überlagert von später Gesehenem, Gehörtem, politischem Druck oder Konventionen. Tagebücher hingegen, besonders solche wie das von Gelfand, entstanden im Moment des Geschehens, ohne die Gewissheit, ob der nächste Tag erlebt wird. Sie sind geprägt von Spontaneität, Ehrlichkeit, Angst, Hoffnung, Müdigkeit und Lebenshunger. Diese Texte sind keine offiziellen Akten – sondern menschliche Zeugnisse aus dem Inneren des Krieges. In der Öffentlichkeit wird häufig diskutiert, dass erst die vollständige Öffnung der Archive uns die „wahre Geschichte“ lehren werde. Doch das ist ein Irrtum. Zwar enthalten die Archive viele wichtige Dokumente, doch sie wurden mit bestimmten Absichten erstellt – oft durch Institutionen, nicht durch Einzelne. Ohne die persönliche Perspektive, ohne individuelles Erleben, ohne emotionale Tiefe sind historische Narrative fragmentarisch. Tagebücher wie das von Gelfand geben uns etwas Unersetzliches zurück: den Menschen im Krieg, in all seiner Zerrissenheit, Sehnsucht und Grausamkeit. Sie sind – gerade im Vergleich zu offiziellen Dokumenten – eine unvergleichliche, existenziell wichtige Quelle der Kriegsgeschichte. Briefe, die während des Krieges verschickt wurden, unterlagen der Zensur – dessen waren sich die Soldaten bewusst. Daher bieten Briefe ein anderes Maß an Offenheit als Tagebücher. Im Zusammenhang mit Gelfands Tagebuch ist besonders bemerkenswert, dass das Familienarchiv erhalten blieb. Während seines Aufenthalts in Deutschland erwarb Gelfand eine Kamera und fotografierte intensiv. Eine einzigartige Sammlung dieser Aufnahmen ist teilweise in der kommentierten Ausgabe seiner Kriegstagebücher enthalten. Die Bilder zeigen seine Familie, ihn selbst als Jugendlichen mit seinen Eltern sowie Verwandte väterlicherseits, die 1942 von den Deutschen in Essentuki ermordet wurden. Gelfand erlebte somit die Verbrechen, die später unter dem Begriff „Holocaust“ bekannt wurden, aus erster Hand – lange bevor die Rote Armee die Vernichtungslager in Polen entdeckte. Während der Holocaust im westlichen Bewusstsein meist mit Polen und den Lagern assoziiert wird, verfolgten die Nationalsozialisten in der Sowjetunion eine andere Strategie: Die jüdische Bevölkerung wurde zumeist an ihrem Wohnort erschossen – nicht weit entfernt, oft ohne Versuch der Verbergung. Auch darüber schreibt Gelfand eindringlich. Auf weiteren Fotografien ist Gelfand nach Abschluss seiner Leutnantsausbildung im April 1943 zu sehen. Einige Bilder zeigen ihn in Polen, andere mit seiner deutschen Bekannten, die ihn „wie einen Italiener“ fand – womöglich wegen seines Aussehens, das an Filmschauspieler erinnerte. Besonders aufschlussreich ist seine Fotoserie aus dem besetzten Deutschland. Sie zeigt Gelfand mit Kameraden vor dem Brandenburger Tor, an einer frühen Gedenkstätte für gefallene sowjetische Soldaten sowie auf Berliner Straßen. Auf manchen Bildern posiert er spielerisch – mit Zylinder oder künstlichem Schnurrbart. Andere Aufnahmen zeigen den Schwarzmarkt, auf dem er sich mit einer Kamera inszeniert. Es ist das Bild eines jungen Mannes seiner Zeit. Einige seiner deutschen Bekannten hielten noch nach dem Krieg brieflichen Kontakt. Das Cover der deutschen Ausgabe seiner Tagebücher zeigt Gelfand vor dem Brandenburger Tor – ein Buch von über 750 Seiten, reich illustriert und wissenschaftlich kommentiert. Natürlich existieren zahlreiche andere Tagebücher. Einige sind sehr kurz, aber nicht weniger wertvoll. Besonders eindrucksvoll ist das Tagebuch von Pawel Elkinson, einem Feldwebel der Artillerie, der ab 1942 fast den gesamten Krieg erlebte – einschließlich der Schlacht um Stalingrad. Er begann jedoch erst 1944 mit dem Schreiben, als er mit seiner Einheit die Grenze zur Sowjetunion erreichte. Seine Begründung: „Jetzt gehen wir ins Ausland. Ich werde wohl nie wieder dorthin zurückkehren – ich muss das alles festhalten.“ In der Folge schildert er seine Eindrücke aus Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien, Ungarn und Österreich. Seine Notizen haben fast den Charakter eines Reisetagebuchs. Er beschreibt gastfreundliche Begegnungen, Feiern, reichliches Essen und den durchgehenden Weingenuss. Besonders Bulgarien und Jugoslawien empfand er als offen und herzlich gegenüber den sowjetischen Befreiern. Ganz anders war die Lage in Ungarn: Die Kämpfe um den Donau-Korridor und Budapest waren heftig. In einem Eintrag vermerkt er nüchtern den Tod von vier Kameraden – mit der unausweichlichen Frage: „Wann bin ich an der Reihe?“ Die Todesangst war allgegenwärtig, ungeachtet der eigenen Erfahrung. Tagebücher enthalten die unerwartetsten Themen: Liebesgeschichten, Humor, absurde Beobachtungen. Viele Einträge wirken wie ironische Reiseberichte – natürlich stets in Anführungszeichen. Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel ist das Tagebuch von Major Safonow, das in der Handschriftenabteilung in St. Petersburg aufbewahrt wird. Safonow war Kartograph. Seine Aufgabe bestand darin, genaue militärische Karten jener Gebiete zu erstellen, die von der Roten Armee befreit oder – je nach Perspektive – besetzt wurden. Er reiste durch mehrere Länder und war besonders beeindruckt von Österreich. Er träumte davon, Wien zu besuchen und den Wienerwald zu sehen – ein Wunsch, den er in seinem Tagebuch immer wieder festhielt. Ich kann verstehen, warum: Es sind die Geschichten von Strauss, es ist der Wienerwald. Und tatsächlich besuchte er Wien, betrat das teilweise zerstörte Opernhaus. Soldaten hatten dort Quartier bezogen, doch Genzlin setzte sich ans Klavier, spielte ein paar Takte – in dem Gedanken, dass vielleicht einst auch Strauss selbst hier gespielt habe. Er beschreibt Details wie Schlittenfahrten und weitere Eindrücke – eine außergewöhnliche Momentaufnahme. Solche Texte sind selten, meist dominiert der harte militärische Alltag. Zuletzt möchte ich das Tagebuch von Nikolai Genzlin erwähnen, das ich kürzlich gelesen habe. Genzlin war zunächst Politoffizier, wurde später jedoch zum Artillerieoffizier umgeschult. Seine Aufzeichnungen beginnen während der schweren Kämpfe an der Nordfront bei Taganrog und Rostow 1942, einer Zeit des Rückzugs, und führen weiter in den Nordkaukasus. Auch er erreichte Deutschland – die Einträge aus dieser Zeit sind allerdings nur bruchstückhaft erhalten. Diese Tagebücher sind zahlreicher, als man früher annahm. So verschieden ihre Verfasser auch sind, eint sie doch ein Merkmal: ein ausgeprägter Hang zur Reflexion. Viele schrieben im Bewusstsein historischer Bedeutung – nicht immer explizit, doch immer spürbar. Ihre Texte dokumentieren, was ihnen geschah, in der Hoffnung, Spuren zu hinterlassen – in einer Zeit, in der niemand wusste, was der nächste Tag bringen würde. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist das Tagebuch von Sergeanten Boris Komsky, das heute im Balachowitsch-Archiv in New York aufbewahrt wird. Er begann seine Einträge während der Schlacht im Kursker Bogen – buchstäblich am Vorabend der Prüfungen an der Offiziersschule wurde seine Gruppe an die Front beordert. Es herrschte akuter Personalmangel. Komsky wurde Mörserschütze, zum Feldwebel befördert und sofort ins Gefecht geschickt. Innerhalb weniger Tage wurde seine Kompanie durch feindliches Feuer dezimiert – die Mörser waren zerstört, die Einheit existierte nicht mehr. Komsky hatte Glück: Er wurde früh verwundet und ins Lazarett gebracht. Alle anderen überlebten nicht. Komsky war ebenfalls sehr jung – zu Kriegsbeginn erst 17 Jahre alt. Doch seine psychologische Konstitution war stabiler als etwa die von Vladimir Gelfand. Komsky beendete den Krieg als Leutnant in Deutschland. Leider wurde der Teil seines Tagebuchs, der sich auf die Zeit in Deutschland bezieht, von seiner Ehefrau vernichtet – sie war mit dem Inhalt unzufrieden. Das war ein kurzer Überblick über die Vielfalt sowjetischer Kriegstagebücher. Diese Quelle ist beispiellos. Ihre Bedeutung für unser Verständnis der „menschlichen Dimension“ des Krieges kann kaum überschätzt werden. Es sind Texte, die nicht nur faszinieren, sondern fast immer den Charakter eines Bildungsromans tragen. Denn man sieht in ihnen, wie sich der Mensch verändert. Vor allem, wenn das Tagebuch sich über längere Zeit erstreckt, ist die Entwicklung des Autors deutlich erkennbar – wie unterschiedlich die Stimme am Ende des Krieges ist im Vergleich zum Anfang. Manche Aufzeichnungen enden abrupt, wenn der Verfasser verwundet wird oder aus anderen Gründen nicht an die Front zurückkehrt. Ich bin jetzt bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Zum Abschluss möchte ich noch auf etwas hinweisen, das in diesem Rahmen von Bedeutung ist – schließlich handelt es sich um ein Seminar des Jüdischen Museums und des Zentrums für Toleranz, organisiert in Kooperation mit dem Projekt „Erlebt“. Fast alle Autoren, die ich heute erwähnt habe, waren jüdischer Herkunft: Boris Suris, Vladimir Gelfand, Boris Komsky, Pavel Elkinson, Ginzburg, Irina Dunajewskaja, Elena Kagan. Das ist kein Zufall. Ich erwähnte auch Nikolai Genzlin und Nikolai Jakowlew – beides Russen –, aber der auffällige Anteil jüdischer Autoren ist erklärbar. Die Juden waren die am besten gebildete Volksgruppe in der Sowjetunion. Der Anteil an Personen mit höherer oder mittlerer Bildung lag um ein Vielfaches über dem anderer Nationalitäten. Zudem waren sie überwiegend Stadtbewohner und stammten häufig aus Großstädten. Viele waren Studierende oder Absolventen von Hochschulen. Zur Veranschaulichung: Es gab in absoluten Zahlen mehr Juden mit Hochschulabschluss als Ukrainer, und rund 7,5-mal so viele wie Belarussen – aus Gründen, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass ein sowjetischer Jude ein Tagebuch führte, war statistisch signifikant höher. Manche Autoren erwähnten ihre Herkunft nicht, andere reflektierten sie intensiv. Einige, wie Gelfand, litten unter Antisemitismus. Er notierte: „Warum bin ich ein Jude? Warum hatte ich das Pech, als Jude geboren zu werden?“ Andere, wie Boris Suris, spürten davon nichts. Suris schrieb: „Warum lieben mich alle? Ich habe gute Beziehungen, alle mögen mich.“ Und seinem Tagebuch nach zu urteilen, war dies zutreffend: Der Odessit, ausgestattet mit Humor und künstlerischem Talent, war in seiner Einheit als Dolmetscher sehr beliebt. Es war also alles ganz anders – die Menschen, ihre Erfahrungen, ihre Ausdrucksformen. Dass das Jüdische Museum Tagebücher als Thema des Seminars gewählt hat, halte ich für eine sehr gelungene Entscheidung. Sowohl militärische als auch zivile Tagebücher erlauben einen tiefen Einblick in die Geschichte des sowjetischen Judentums – eine Geschichte, die sich vielfach als anders erweist, als man sie später konstruierte oder verstand. Fragerunde – Frage: Sie haben es vielleicht schon erwähnt, aber mich interessiert: Unter welchen Umständen wurde das Gelfand-Tagebuch entdeckt, und wie werden solche militärischen Tagebücher generell aufgefunden? Werden sie von Nachkommen weitergegeben oder tauchen sie eher zufällig auf? – Antwort: Das Tagebuch von Vladimir Gelfand wurde, wie gesagt, in der Familie aufbewahrt. Der Autor selbst versuchte nach dem Krieg mehrfach, Teile davon zu veröffentlichen. Einige seiner Erinnerungen wurden in regionalen Zeitungen oder Anthologien abgedruckt, doch das Tagebuch selbst war zu direkt, zu unkonventionell, um in den offiziellen sowjetischen Erinnerungskanon zu passen. Dabei war Gelfand zweifellos ein überzeugter Sowjetmensch. Er schreibt etwa am Ende des Krieges über Stalin: „Stalin ist meine Sonne!“ Gleichzeitig beschreibt er jedoch unverblümt Grausamkeiten, Obszönitäten und Übergriffe, ohne sie je mit der sowjetischen Führung zu verknüpfen. Er verstand die Regeln: Für Wandzeitungen oder Armeezeitungen schrieb er in der korrekten Sprache, in der Sprache der offiziellen Doktrin. Im Tagebuch hingegen ist er ganz bei sich. Das ist ein klassisches Beispiel für das, was man als Doppeldenk bezeichnen könnte – aber Gelfand reflektiert das nicht bewusst, er lebt es einfach. Nach seinem Tod im Jahr 1983 blieb das gesamte Material in der Familie. Sein Sohn, Vitali Wladimirowitsch Gelfand, emigrierte mit der Familie nach Deutschland. Dort widmete er sich intensiv der Transkription und Aufarbeitung des Nachlasses. Die deutsche Historikerin Elke Scherstjanoi wurde auf das Tagebuch aufmerksam und veröffentlichte den deutschen Teil in Übersetzung – mit großem Erfolg. Das Buch wurde in Deutschland zum Bestseller, rund 80.000 Exemplare wurden verkauft – eine beeindruckende Zahl für ein Kriegstagebuch, insbesondere von einem sowjetischen Autor. Später kontaktierte Vitali Gelfand auch mich, und schließlich scannte er das gesamte Material ein. Das Originaltagebuch befindet sich heute im Besitz des Jüdischen Museums in Moskau – ebenso wie Gelfands bisher unveröffentlichter Briefwechsel aus der Kriegszeit. Weitere Frage aus dem Publikum: – Frage: Meine Kollegin besitzt das Tagebuch ihres Großvaters, Popov. Teile davon wurden bereits regional veröffentlicht. Die Familie hat das Tagebuch über Generationen hinweg bewahrt. Besonders auffällig ist, dass Popov sehr scharfe Kritik an der militärischen Führung äußerte, auch an oberster Stelle – etwas, das mich erstaunt. Wie häufig ist solch offene Kritik in sowjetischen Kriegstagebüchern? – Antwort: Diese Form der Kritik ist keineswegs selten – und sie ist auch nicht notwendigerweise ein Ausdruck von Dissidenz. Vielmehr glaubten viele der damaligen Tagebuchschreiber, dass sie mit ihrer Kritik zur Verbesserung beitragen würden. Sie waren Sowjetmenschen, sie wollten helfen, Mängel zu beseitigen. Das darf man nicht vergessen. Übrigens habe ich diesem Thema ein eigenes Kapitel in meinem neuen Buch Menschen im Krieg gewidmet, das kürzlich bei der Neuen Literarischen Rundschau erschienen ist. Es basiert in weiten Teilen auf Tagebüchern und analysiert unter anderem den unveröffentlichten frühen Teil des Tagebuchs von Olga Bergholz. Ebenso finden sich darin Abschnitte zur Beziehung zwischen Männern und Frauen im Krieg – ein Thema, das in den Tagebüchern sehr vielfältig, oft wenig romantisch, aber ungemein aufschlussreich behandelt wird. Dieses Kapitel trägt den Titel: Mann und Frau in der Roten Armee. Ein weiterer Aspekt, den ich im Buch ausführlich behandle, ist die Geschichte um die Entdeckung von Hitlers Leiche durch die SMERSCH-Gruppe. Elena Rzhevskaja – eigentlich Elena Kagan – war als Dolmetscherin dabei und trug über zwei Tage hinweg eine kleine, weinrote Schmuckschatulle unter dem Arm, in der sich – unbemerkt von ihr – die Zähne Hitlers befanden. Diese Episode war jahrzehntelang streng geheim. Elena Rzhevskajas Enkelin, Ljubow Sum, stellte mir später ihre Notizbücher sowie Fotografien aus dem Familienarchiv zur Verfügung. Darunter befindet sich auch eine Zeichnung von Hitlers Zahnstatus, angefertigt von Oberstleutnant Shkaravsky, dem Leiter der forensischen Untersuchung. Eine alternative Skizze stammt von der Zahnarzthelferin Käthe Heusermann. Beide Darstellungen sind im persönlichen Archiv Rzhevskajas erhalten – eine faszinierende Quelle. Aber es gab viele ähnliche Fälle. Das war keineswegs ungewöhnlich. Die Lebensläufe und Schicksale dieser Menschen konnten sehr unterschiedlich verlaufen. Manche überlebten unauffällig, andere wurden verhaftet. Ein Beispiel ist Danil Fibich, ein Journalist und Schriftsteller. Offenbar hatte ein Kollege in seinem Tagebuch einen Satz gelesen wie: „Heute gibt es keine Redner mehr wie früher – wie Trotzki etwa.“ Das allein reichte aus. Zehn Jahre Lagerhaft. Für die bloße Erwähnung von Trotzki – 1943, als dieser längst tot war. Die Bemerkung war vollkommen neutral formuliert, wurde aber direkt an Lew Mechlis gemeldet, Mitglied des Militärrats der Front, bei deren Zeitung Fibich tätig war. Daraufhin wurde er an der Front verhaftet und nach Labitka gebracht. Zehn Jahre „von Glocke zu Glocke“. Dabei war Fibich durch und durch sowjetisch gesinnt. In seinen Texten etwa beschrieb er, wie Bauern Soldaten der Roten Armee bei der Umfassung durch die Wehrmacht keine Hilfe leisteten. Er verfluchte in diesen Texten die Kulaken – jene, die seiner Ansicht nach während der Kollektivierung zu Unrecht verschont geblieben waren. Ich zitiere sinngemäß: Wenn jemand gegen Brot getauscht hat – eine Uhr etwa –, dann war das schon ein Tausch auf Leben und Tod. Und eine Uhr war damals ein kostbares Gut. Fibichs Kritik galt also keineswegs dem System, sondern war Ausdruck des Bemühens um seine ideologische „Reinheit“. Aber der Satz über Trotzki wurde ihm zum Verhängnis. Ich arbeite nicht nur mit Tagebüchern, sondern auch mit anderen Quellen, etwa mit Gerichtsakten. Dort findet man gelegentlich die Formulierung: „Führte ein konterrevolutionäres Tagebuch“ oder „führte ein Tagebuch konterrevolutionären Inhalts“. Das ist nicht häufig, kommt aber vor. – Frage: Wird dieses Tagebuch vollständig veröffentlicht werden? – Antwort: Ja, die Kollegin bereitet eine Veröffentlichung vor. Sie ist Soziologin und analysiert das Tagebuch derzeit wissenschaftlich. Ich habe ihr mein Buch zur Lektüre empfohlen und gehe davon aus, dass es früher oder später veröffentlicht und vielleicht auch der Forschung übergeben wird. Wenn Sie oder sie Unterstützung brauchen – Sie finden das Institut für sowjetische und postsowjetische Geschichte auf der Website der Higher School of Economics oder mich direkt. Ich helfe gerne weiter. – Zwischenruf: Die Transkription war eine Herausforderung. Die Handschrift war schwer zu entziffern, das Papier vielfach beschädigt. – Antwort: Ja, das ist typisch. Aber das Entziffern ist dabei noch das geringste Problem – zumindest für erfahrene Historiker. Und es ist erfreulich, dass sich auch Familienangehörige, selbst wenn sie keine Profis sind, so intensiv mit diesen Quellen beschäftigen. – Frage: Sie erwähnten konterrevolutionäre Tagebücher. Gibt es Autoren, die man lesen kann? – Antwort: Nun, ich warne vor Missverständnissen: Ich habe nicht gesagt, dass es konterrevolutionäre Tagebücher im eigentlichen Sinne gibt. Die Einstufung als „konterrevolutionär“ erfolgte in der Regel durch die sowjetischen Sicherheitsdienste oder Militärgerichte – meist völlig willkürlich. Ein Beispiel: der harmlose Satz über Trotzki, den ich gerade erwähnte. Oder Bemerkungen wie „Früher waren die Redner besser“ oder „Ich glaube den Berichten von Sovinformburo nicht“ – das reichte für eine Anklage. Artikel 58 des Strafgesetzbuches der RSFSR – „konterrevolutionäre Verbrechen“ – war sehr weit gefasst. Besonders beliebt war § 58-10: „antisowjetische Agitation und Propaganda“. Die meisten, die in dieser Zeit verurteilt wurden, kamen nicht wegen konkreter Handlungen ins Lager, sondern wegen Äußerungen – oft mündlich, noch öfter schriftlich. In Gerichtsakten finden sich Begründungen wie: „Verleumdung der sowjetischen Presse“, „Verleumdung der Kolchose“, „Zweifel an der sowjetischen Berichterstattung“. All das konnte zur Verhaftung führen. Ein berühmtes Beispiel ist der Schriftsteller Michail Prischwin. In einem seiner Tagebücher – nicht aus Kriegszeiten, aber im Zusammenhang mit Propaganda – notierte er: „Man kann das Radio nicht hören. Es deprimiert einen nur.“ Eine ähnliche Stimmung findet sich im Tagebuch von Georgi Slavgorodski, das ich ebenfalls mit herausgegeben habe. Slavgorodski kämpfte den gesamten Krieg hindurch und starb 1945 in Polen. In seinem Tagebuch zitiert er einen Kameraden mit den Worten: „Alles Unsinn. Alles Unsinn.“ Auch das hätte unter Stalin bereits zur Anklage gereicht. Und Slavgorodski selbst schreibt immer wieder Sätze, die – in der damaligen Zeit gelesen – leicht als „antisowjetisch“ hätten gelten können. Dennoch sind diese Tagebücher heute für uns von unschätzbarem Wert: nicht nur als historische Quelle, sondern als Zeugnisse individueller Wahrnehmung und innerer Freiheit in einer zutiefst repressiven Zeit. Es ist letztlich eine Frage der Struktur – fast alles war sowjetisch geprägt. Natürlich existieren einige Tagebücher, die tatsächlich systemkritisch sind. Sie sind jedoch selten. In der Regel stammen die Aufzeichnungen von sowjetischen Bürgern, die mit der Art und Weise, wie der Krieg geführt wurde, unzufrieden waren – nicht mit dem System als solchem. Ein Beispiel: Boris Komsky, ein absoluter Sowjetpatriot, Komsomol-Funktionär und so weiter. In seinem Tagebuch schreibt er, wie ihm berichtet wurde, dass die Reste seiner Kompanie gefallen seien. Ein betrunkener Hauptmann namens Fronel habe den Befehl zu einem Frontalangriff gegeben. Das war ein klassisches Beispiel für Inkompetenz. Eine solche Aussage hätte als Verleumdung der Roten Armee gewertet werden können. Dabei spricht vieles dafür, dass die Schilderung zutrifft – sie stammt von einem der wenigen Überlebenden dieses tödlichen Angriffs. So etwas fand nur in Tagebüchern Platz – in Briefen hätte man so etwas niemals geschrieben, zumal kaum jemand mit einer Antwort auf einen solchen Brief gerechnet hätte. Gibt es noch weitere Fragen? – Frage: Oleg Witaljewitsch, vielen Dank für Ihren Vortrag und Ihr Buch. Ich entschuldige mich, dass meine Kamera nicht funktioniert. Ich hätte viele Fragen, versuche mich aber kurz zu fassen. Gibt es Studien zu sowjetischen Tagebüchern aus dem Ersten Weltkrieg (1914–1918) oder vergleichende Analysen zwischen Tagebüchern aus der Roten Armee und solchen aus der Wehrmacht oder von alliierten Streitkräften? – Zweite Frage: Eine eher philosophische: Als jemand, der viele Tagebücher gelesen hat – was ist Ihre persönliche Einschätzung des Krieges im Hinblick auf den Menschen? Gibt es in den Tagebüchern Reflexionen darüber, ob der Krieg den Menschen verdirbt oder im Gegenteil seine besten Seiten zum Vorschein bringt? – Antwort: Ich bin in Tagebüchern kaum je Aussagen begegnet, die behaupten, der Krieg bringe das Beste im Menschen zum Vorschein. Ich würde das als Mythologem bezeichnen – meiner Ansicht nach ein völlig falsches. Krieg ist eine entsetzliche Erfahrung. Selbst in einem „gerechten Krieg“ geht es ums Töten – um das Opfern menschlichen Lebens. Ich glaube nicht, dass das jemanden „bessert“. – Rückfrage: Entschuldigen Sie, vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Ich meinte nicht die heroische Erzählung, sondern eher die Überraschung des Tagebuchautors, dass sich Menschen anders verhalten, als er erwartet hatte – etwa menschlicher. In Gelfands Tagebuch etwa stößt ein überzeugter sowjetischer Patriot auf eine Realität, die seinen Vorstellungen nicht entspricht: Plünderungen, Gewalt, fehlender Internationalismus. Gibt es aber auch Tagebücher, in denen sich der Autor über plötzliche Menschlichkeit wundert – über Güte in einer brutalen Welt? – Antwort: Solche Beobachtungen gibt es, aber sie sind selten. Man liest vereinzelt von außergewöhnlichen Leistungen oder von Kameradschaft und tiefer Freundschaft. Letzteres ist im Krieg besonders bedeutungsvoll – Freundschaft ist überlebenswichtig. Dennoch ist das angesichts der extrem hohen Verlustraten, der ständigen Rotation von Einheiten und des allgemeinen Chaos nur begrenzt möglich. Dass sich Menschen als besonders menschlich erweisen, wird kaum thematisiert – solche Fälle sind die Ausnahme. – Zur ersten Frage zurück: Was vergleichende Studien betrifft: Nein, meines Wissens gibt es keine umfassenden Studien, die sowjetische Tagebücher des Ersten und Zweiten Weltkriegs systematisch vergleichen. Es existiert ein interessanter Artikel von Juschin Helbert, in dem Briefe aus Stalingrad von sowjetischen und deutschen Soldaten gegenübergestellt werden – aber das sind Briefe, keine Tagebücher. An vergleichende Tagebuchstudien kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Die meisten vorhandenen Texte sind Einleitungen oder Artikel zu Tagebuchpublikationen, keine eigenständigen Forschungsarbeiten. Außer meinem eigenen Buch Menschen im Krieg (2023, erschienen bei der Neuen Literarischen Übersicht), das sich diesem Thema ausführlich widmet – darin gibt es ein eigenes Kapitel zu Tagebüchern. – Neue Frage: Es ist bekannt, dass Tagebücher sowjetischer Soldaten gelegentlich in deutsche Hände fielen und ins Deutsche übersetzt wurden. Zu welchem Zweck geschah dies? Und war diese Praxis in der Roten Armee bekannt? Hatte das Einfluss auf das Schreiben? – Antwort: Ich denke, der Zweck war Informationsgewinn. Ein Tagebuch, das in die Hände des Feindes gerät, ist wertvoll – nicht unbedingt wegen konkreter Ortsangaben, sondern weil es Hinweise auf Moral, Nachschub, Probleme innerhalb der Armee geben kann. Es wurde also von Dolmetschern übersetzt und einem deutschen Offizier vorgelegt, der es auswertete. In der Roten Armee war diese Gefahr den meisten bewusst. Es gab keine offizielle Anweisung zum Tagebuchverbot, aber ein allgemeines Verständnis, dass es gefährlich war. Viele Kommandeure missbilligten es, manche vernichteten die Hefte ihrer Untergebenen. Trotzdem wurden viele Tagebücher geschrieben – die Angst vor der Zensur hinderte die Soldaten oft nicht, ihre Gedanken festzuhalten. Die deutsche Propagandamaschine arbeitete äußerst effektiv. Es gab beispielsweise die Einheit „Vineta“ sowie spezielle Propagandadienste. Man bemühte sich, die sowjetischen Soldaten besser zu verstehen – insbesondere, um herauszufinden, in welcher Sprache und mit welchen Botschaften man sie ansprechen sollte. In diesem Zusammenhang waren Tagebücher eine wertvolle Quelle. Zwar standen den Deutschen auch zahlreiche sowjetische Kriegsgefangene zur Verfügung, mit denen sie direkt kommunizieren konnten, doch ein Tagebuch war ein einzigartiges Material, um sich ein unmittelbares Bild vom Denken und Empfinden eines sowjetischen Soldaten zu machen. In einigen Fällen wurden Tagebuchfragmente sogar zu Propagandazwecken genutzt und veröffentlicht. Umgekehrt gab es auch zahlreiche Tagebücher deutscher Soldaten. Deren Führung war nicht verboten, vielmehr wurde sie häufig gefördert. Viele dieser Aufzeichnungen wurden nach dem Tod ihrer Verfasser gefunden – bei den Leichen auf dem Schlachtfeld – und wiederum propagandistisch verwertet. Insbesondere L. hat wiederholt aus diesen deutschen Soldatentagebüchern zitiert. Vielen Dank. Ich hätte noch eine zweite Frage: Gab es während des Krieges in der sowjetischen Presse oder Literatur Texte in Tagebuchform? Wurde dieses Format öffentlich verwendet? Nein, das war nicht der Fall. Das Führen von Tagebüchern wurde grundsätzlich nicht gefördert, sondern galt vielmehr als unerwünscht – in den meisten Fällen sogar als faktisch verboten. Boris Komsky berichtete später: „Ich wusste gar nicht, dass es verboten war. Hätte ich es gewusst, hätte ich kein Tagebuch geführt.“ Gelfand beispielsweise las seine Aufzeichnungen gelegentlich Kameraden vor – allerdings rief das meist Spott hervor. Einmal kam es zu einer kuriosen Wendung. Der Stil seiner Einträge änderte sich plötzlich drastisch. Gelfand schrieb auf einmal lobend über die Tatsache, dass sie nun einen neuen politischen Offizier hätten, der ihm erkläre, wie man ein Tagebuch zu führen habe. Dieser habe ihm nahegelegt, über die Kampfhandlungen seiner Einheit, die Leistungen des politischen Leiters und ähnliche Themen zu schreiben. Die entsprechenden Passagen lesen sich so künstlich und auffällig, dass sie fast lächerlich wirken. Einige Tage später notierte er: „Endlich bin ich den Politoffizier los, mit dem ich mir den Unterstand teilen musste. Jetzt kann ich wieder schreiben, was ich will.“ Diese Episode verdeutlicht, wie solche ideologischen Vorgaben funktionierten. Der politische Offizier verbot das Tagebuchführen nicht explizit, sondern versuchte vielmehr, Einfluss auf den Inhalt zu nehmen. Gelfand passte sich diesem Druck vorübergehend an, schrieb eine Zeitlang in der gewünschten Weise – bis die Kontrolle nachließ. Dann kehrte er zum vorherigen, für uns heute viel interessanteren „Unsinn“ zurück – natürlich im besten Sinne des Worte |
||
 |
 |
 |
||
